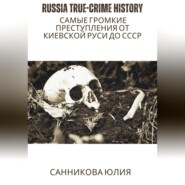По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Сцены из нашего прошлого
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
С чем я остался после того памятного партсобрания? С чувством горечи и недоумения. Речь, которую я произнес в свою защиту, выслушали без интереса и во внимание, конечно, не приняли. Я изнурился, охрип, а тов. Капустин и его прихлебатели всю дорогу, пока шло заседание, играли со мною в «торжество Фемиды».
Вы уж простите меня, но при всей скромности, я утверждаю, что если по отношению ко мне можно выдвигать обвинения в формализме, а моих родственников клеймить подкулачниками, то кто-то тут не в себе: или я, или тов. Капустин. Я еще тогда хотел предложить написать коллективное письмо лично вам, товарищ Сталин, с просьбой разобраться в сложившейся ситуации, но потом подумал, что наверняка у вас нет времени заниматься подобной ерундой. Столько великих дел требуют немедленного Вашего внимания. Однако, невыносимость моего положения, вынудила меня побеспокоить Вас. В моей человеческой судьбе Ваш ответ имеет немаловажное значение. Он мне нужен как вода и воздух, так как я хочу работать и служить партии, а верхушка Зайковской райпотребкооперации этому препятствует.
Наложенное на меня партийное взыскание жгло меня каленым железом от своей несправедливости. Особенно, когда после собрания заведующий райзаготконторой и по совместительству секретарь нашей парторганизации тов. Прянишников подошел ко мне и рассказал, как его и других перед собранием натаскивали. Ближайший друг тов. Капустина, тов. Аллен заявил ему, что Данилов, то есть я, должен быть уничтожен за письмо, которое он послал товарищу Ситникову, и если кто не согласен с этим, то пусть на собрание не является. Вот они и уничтожали. Чуть было не погубили меня! Дальше было не легче.
Через месяц в магазин ко мне пришла внеплановая ревизия и нашла недостачу в 4279 рублей и 54 копейки, после чего с должности завмага меня уволили. Товарищ Капустин разрешил возместить ущерб и пообещал не давать делу хода, объясняя это тем, что состоящих в партии нельзя судить как мелких жуликов, каковым, по его мнению, я и являюсь. «Мелкий жулик и подсадная утка», – бросил тов. Капустин мне в лицо и сплюнул на пол. Такой ли уж это пустяк, товарищ Сталин, обозвать человека уткой и плеваться при этом, словно ты не в помещении находишься, а на бульваре гуляешь?
Мне очень бы хотелось оформить письменно свои впечатления от сношений с тов. Капустиным. и отправить их новому председателю облисполкома тов. Николаеву, но я боюсь, не будет ли мое письмо неверно истолковано и не верней ли будет писать в комиссариат государственной безопасности Свердловской области, его начальнику товарищу Н. В. Суркову? У меня много что есть рассказать компетентным органам. Но боюсь поторопившись, не сделать хуже. Не хотелось бы. Как бы Вы поступили на моем месте товарищ Сталин? Сделаю, как Вы скажете!
С тех пор как меня уволили, я продолжаю работать, но высоким заработком похвастаться не могу. На руководящие должности меня не принимают – тов. Капустин раструбил по всему свету о моей так называемой недостаче – приходится перебиваться случайной физически трудной работой. Мне, человеку с умственной специальностью, делать это крайне тяжело. Здоровье подорвано, существование отягощено долгами, семейная жизнь – у меня супруга и дочь полуинвалид – пришла в полное расстройство.
В октябре прошлого года мне пришлось лечиться в санатории. В течение этого времени тов. Капустин и тов. Аллен распускали слухи для опошленного, извращенного толкования моей прошлой работы в магазине и в партии. По городам и весям Зайковского района они болтали обо мне всякую чушь. Договорились до того, что обвинили меня в безыдейности и формализме, а также в непролетарском происхождении. Дескать мой отец был подкулачником, сестра с братом сидели в тюрьме, а тесть служил у Колчака.
Со всей ответственностью, товарищ Сталин, заявляю, что сказанное Капустиным и Алленом самая наглая ложь и провокация!
У меня есть кое-какие выходы, я проверил по первоисточникам, насколько идеологически чисты были родственники тов. Капустина, а заодно и тов. Аллена. Мне открылась душераздирающая картина! Оказывается, председатель Капустин происходит из самой что ни на есть вредной, антинародной и контрреволюционной среды. Его отец до революции был старостой купеческой управы, а сынок, убоявшись советской власти, сменил фамилию, обманом втерся в доверие и таким же обманом получил председательскую должность. И этот купчина толстопузый обвиняет меня, сына середняка в формализме? Не слишком ли он о себе возомнил? С другой стороны, брань не дым – глаза не ест, обвиняй в чем угодно, зачем же с работы гнать?
Теперь товарищ Аллен. С ним история намного интересней. Во-первых, пусть кто-нибудь объяснит мне, как человек с немецкой фамилией, отец и мать которого чистопородные немцы, смог затесаться в ряды Красной Армии. И, во-вторых, пусть этот кто-то скажет еще, как человека с такой биографией допустили на фронт, командовать отрядом?
Мне удалось разговорить тов. Б. Васюкина, бывшего сослуживца Аллена еще по тем временам, когда тот работал в колхозе. После двух стаканов водки, которые тов. Васюкин выпил не закусывая, он сообщил мне, что Аллен, придя с войны, в беседах с ним злостно и дерзко отзывался о советском народе, обзывая солдат, которыми он командовал, всякими ругательными словами – разбойниками, свиньями, изнасилователями несовершеннолетних и прочей непечатной руганью.
Надо быть совершенно слепым или абсолютно глупым, или в корне непорядочным человеком, чтобы не уразуметь на чью мельницу льет воду тов. Аллен. О таких вредных речах давно следовало сообщить, куда следует. Впрочем, видя с какой охотой Васюкин поглощал водку, я понял, что у него напрочь потеряна ориентация. И здоровое чутье, как оно пропадает у собак, которые заражены бешенством. В сущности, по нему видно, что дело его конченное и долго он не протянет. Кстати, еще он сообщил, что мать Аллена долгое время жила в Лондоне и происхождение у нее кулацко-бандитское, конкретнее он рассказать затруднился.
Как можно понять, этих двух людей связывает единство сомнительного происхождения и общность интересов в настоящее время. На первом месте у них – не интересы партии, и советский народ они не любят. А любят красивую жизнь и большие доходы. И личным врагом для них делается каждый, кто смеет выступить против их шкурного, карьерного интереса. Они обманывают партию, товарищ Сталин, лгут народу и Вам.
В 1937 году на Урале была раскрыта и обезврежена контрреволюционная фашистская террористическо-повстанческая организация церковников, куда входили бывшие меньшевики и эсеры. Но вместо них стали возникать другие не менее антипартийные группы приспособленцев. Во главе Зайковской группы правых уклонистов, возникшей вполне вероятно уже давно, стоит явный агент политики Уолл-стрита Г. Аллен.
Совсем недавно выяснилось, что затронут вопрос о моем исключении из партии. Тов. Капустин на закрытом заседании, куда меня почему-то не пригласили, заявил о моей политической неблагонадежности и поставил вопрос ребром. Такого поворота событий я, признаться, от них не ожидал.
Товарищ Сталин! Для меня, как и для каждого члена ВКП(б) вопрос о членстве в партии имеет принципиальное значение, поскольку вся моя сознательная жизнь тесно связана с комсомолом и партией. Двадцать пять лет я отдал активной работе в рядах ВКП(б), при этом не имея ни одной ошибки или взыскания. Я сознаю, что допустил серьезный промах и растратил 4279 рублей и 54 копейки. Признаю, что проявил беспринципность и систематически не сдавал выручку в банк, оставляя ее у себя. Но я раскаялся и осознал свой проступок, твердо обещаю, подобного больше не повторится. К тому же я полностью возместил недостачу, как несколькими годами ранее сделал завбазы Бубнов. И однако же, Бубнов устроен на работу и остается в партии, а я лишен всех средств к существованию, и теперь вот жду, когда меня окончательно выдерут с корнем. Не сомневаюсь, что приговор мне уже вынесен, и они выбирают подходящий момент, чтобы его огласить. А может быть понимают, что без боя я не уйду, и готовят ответный удар.
Тут такое дело, товарищ Сталин. Пока я писал к Вам эти строчки, многое передумал. Обвиненения в упадничестве и формализме пусть остаются на совести моих критиков, хотя, надо признать, некоторые из этих обвинений вызваны были моими антипартийными поступками, о чем я теперь крайне сожалею. И вот еще что. Не надо было мне тогда писать в облисполком, а сразу – в УМГБ Свердловской области тов. Суркову. Там работают действительно неутомимые и зоркие стражи рабочего класса и партии, которые быстро бы вывели на чистую воду правых уклонистов и вредителей, пусть и ловко организованных. Но, как известно, из песни слова не выкинешь.
Дорогой и уважаемый, Иосиф Виссарионович, на этом письмо свое заканчиваю. О наших зайковских делах я Вас, как и обещал вначале, проинформировал, о помощи попросил. А вообще, товарищ Сталин, знаете что? Приезжайте к нам в Свердловскую область, лучше прямо в Зайково. Посмотрите, как бурно развивается советский Урал, как справляется с задачами, которые ставит перед ним партийное руководство. У нас тут очень хорошо! Только приезжайте летом, когда потеплеет, климат у нас суровый, чтобы не простудится. Мне и всем жителям Зайковского района очень хотелось бы получить возможность повидать Вас и обсудить проблемы современной райпотребкооперации. А вообще поговорим о чем хотите!
В случае вашего согласия прошу Вас сделать распоряжение Секретариату и позвонить по телефону 9 – 31 в Зайковский райисполком, либо дать телеграмму на имя Данилова Захара Петровича.
Разрешите заранее поблагодарить Вас, Иосиф Виссарионович.
Ваш Захар Данилов.
В щелях Сталинграда
В 1965 году в ознаменовании двадцатой годовщины победы над немцами одна советская газета объявила сбор воспоминаний о «самом памятном дне войны», пообещав напечатать наиболее интересные рассказы. Мы сознательно не называем газету, поскольку для нашей истории это не имеет ровным счетом никакого значения. В то время многие СМИ, а вместе с ними музеи, поисковые звенья, краеведческие кружки, пионерские и комсомольские отряды анонсировали подобного рода памятные мероприятия. Присланные кипы мемуаров передавались затем в музеи: школьные, краеведческие, ведомственные, где про них скоро забывали. Листки покрывались пылью, пока какой-нибудь практичный завхоз не отправлял их в печку, чтобы освободить место для новых экспонатов и воспоминаний.
Нина Тимофеевна Зинченко, в девичестве Куприянова, которой в ту пору минул тридцать один год, решила поучаствовать в акции, предложенной газетой, тем более, что у нее как раз было много чего порассказать на заданную тему. В войну Нина Тимофеевна проживала в Сталинграде, который в связи с развенчанием культа личности предыдущего вождя, вот уже четыре года назывался по-новому – Волгоградом.
Про нынешний сбор воспоминаний Нине рассказала ее подруга – Галочка Дрожжинова, которая, как и Нина, благодаренье Богу, пережила эту страшную войну. Обе женщины работали теперь в Харькове на паровозостроительном заводе имени Малышева. Нина оказалась в городе, выйдя замуж за коренного харьковчанина. А Дрожжинова осталась тут после того, как с матерью была депортирована из Калуги в перевалочный лагерь, находившийся поблизости от города, откуда жителей и пленных наших солдат переправляли в Германию. Матери и дочери Дрожжиновым посчастливилось, они сбежали из лагеря, их поселили у себя жители деревни, а после оккупации они здесь и остались.
Галочка уже участвовала в 1961 году в сборе от «Комсомольской правды», однако, ее письмо не опубликовали. Из газеты пришел ответ, отпечатанный на бумаге со следами копирки, в котором ее благодарили за интересный рассказ, но с сожалением сообщали, что выпустить его невозможно, ввиду большого количества полученных откликов и малого объема газетной полосы, после чего следовала пара стандартных извинений. Два раза прочтя текст без подписи, Галочка с пониманием кивнула – она не сомневалась, что редакция завалена письмами одно другого интереснее. С нетерпением ждала она выхода очередного номера «Комсомолки», чтобы прочесть «самые памятные» воспоминания, но каждый раз почему-то обнаруживала сообщения, написанные в стиле плакатных агиток, каковыми увешан был каждый свободный сантиметр стен паровозостроительного завода. Женщина из-под Бреста, пережившая оккупацию с негодованием писала:
«Вы все знаете, что эти голодные шакалы рыскали по нашим землянкам, где мы ютились, и отнимали последние крохи. Все это сопровождалось побоями и смертью многих мирных жителей – детей, женщин и стариков».
Самым памятным днем девочки из-под Курска – ее письмо, показавшееся редакции примечательным тоже было опубликовано в рубрике – оказался тот, в который ее сестра чудом избежала смерти:
«Однажды к нам зашел фашист. Посмотрев вокруг, он направился к двери, и моя сестра поспешила закрыть за ним дверь. Минуты через две он появился с эсэсовцем для того, чтобы расправиться с сестрой. Сестра ловко упала в сторону и пули, предназначенные ей, летели мимо. Слезы выступают на глазах, когда вспоминаешь этих зверей-немцев».
В одном из номеров Галя прочла рассказ о суровых военных буднях за подписью некоего В. Одянникова. Фамилия показалась ей смутно знакомой. Не поленившись, она сходила в Двенадцатую районную библиотеку, работавшую без выходных с продленным на два часа рабочим днем для обслуживания читателей, и нашла там несколько книг, авторства В. Одянникова, оказавшегося известным советским писателем-фронтовиком, награжденным несколькими орденами и почетными грамотами. Галочка почувствовала поднимающуюся в груди волну возмущения. Ей казалось несправедливым, что в конкурсе наравне с простыми гражданами участвует профессиональный литератор. Да и потом, пусть ее рассказ получился не таким складным, как у писателя-фронтовика, но сюжет, положим, был ничем не хуже одянниковского с его преувеличенными восторженными дифирамбами советской армии и зверскими эпитетами по адресу немцев. И уж, конечно, он был намного лучше рассказа той девочки, у которой немцы хотели убить сестру. К тому же Галя сомневалась, что сестра смогла так ловко увернуться от автоматной очереди, и уцелеть от двоих человек фашистов, намеревавшихся во что бы то ни стало расправиться с ребенком. В такое ей, видевшей расстрелы немцами советских военнопленных, верилось с трудом.
Галя передумала участвовать в подобных проектах, пусть хоть сама «Правда» их объявляет, но прошло четыре года, осадок от прошлой неудачи растворился, а воспоминания о страшных днях по-прежнему требовали выхода, поэтому она решила попробовать еще раз. Да и что греха таить, хотелось увидеть свою фамилию, пропечатанной в газете. А вдруг сейчас получится?
С Ниной Зинченко о войне они не говорили. Не было подходящего случая, а может, что скорее всего, не находилось тем. Ну что там обсуждать? Как им, восьми и девятилетним девчонкам – Галочка была на год старше Нины – было тяжело и страшно? Как они пухли от голода и не раз бывали на волосок от смерти? Это ведь и так понятно, и нечего переливать из пустого в порожнее, и считать это дружеской болтовней. А вот про сбор военных воспоминаний Гале почему-то захотелось сказать Нине, она и сама не знала почему…
Нине идея понравилась. Нет, не так. Она совершенно ею загорелась, ей виделось, что доверив слова бумаге, она проживет те страшные моменты вновь, переработает их, усвоит урок, который, она была уверена, через войну преподал ей Бог. И после этого обновленная и, наверное даже переродившаяся, сможет, наконец, заняться своим будущим, насущными делами. Многие из тех, кто пережил войну, стали верующими, посещали церковь и службы, забегали в храм на большие праздники поставить свечку за здравие или упокой. Облегчали душу на исповеди, причащались, словно чувствовали обязанными отблагодарить Его за то, что уцелели в смертельном дьявольском вихре. Нина покрестилась в возрасте шестнадцати лет, но крошечный медный крестик не носила.
Итак, в один прекрасный выходной день в ноябре месяце Нина Зинченко села за письменный стол, положила перед собой школьную тетрадь в линейку и принялась размышлять, с чего ей начать свою повесть. Представлялось важным соблюдать хронологический порядок, описывая события от самых ранних, возможно и довоенных, предгрозовых, и до освобождения города в феврале 1942-го. «Так ведь писать велено о самом памятном дне войны!» – воскликнула она про себя, вспомнив о задании из газеты. Но тут же успокоилась мыслью, что будет писать все подряд, а потом выберет самое главное и отошлет в редакцию.
Потом она подумала, что вся эта затея с мемуарами в газету – совершеннейшая ерунда, и она себе возомнила неизвестно что. Кому интересна ее история? Сколько сейчас еще живо народу, которые участвовали в войне, совершали героические поступки, шли в атаку, получали ранения, сбивали вражеские самолеты и гнали немцев до самого Берлина. Вот их истории нужно читать и перечитывать. А что такие, как она, Господи? Ну что она может написать? Как с другими детьми прятались по подвалам, выглядывали, что-то видели, кого-то помнили… Ну и кому это нужно?
«Газете нужно, и мне нужно!», – тряхнула Нина головой и решительно взялась за перо.
Нина Куприянова родилась 14 июня 1934 года в Сталинграде. Кроме нее у родителей – Тимофея Борисовича и Алевтины Дмитриевны было еще двое детей. Сестра Ирина – старше на полтора года и младший брат Мишатка, родившийся в конце 1936-го.
Довоенный Сталинград Нина помнила хорошо, это были самые яркие и чистые воспоминания. В памяти хранилось лето, жара, роскошные клены, прораставшие чудесным образом на всяком свободном клочке земли. А еще фонтаны. Сталинград – страна фонтанов. Летом клены и фонтаны спасали жителей от африканской жары. Осенью деревья стряхивали огненные брызги листьев на асфальт, покрывали улицы пестрым индейским ковром, превращая город в сказочное тридевятое царство.
В довоенных грезах были мама и папа. С отцом они катались на прогулочном пароходике, на велосипедах в парке Карла Маркса, купались в Волге и грелись на пляже. Мама относилась к детям строго, не баловала, могла отругать, если плохо себя вели, но и поощряла, когда они того заслуживали, а то и просто так, без повода. На праздники обязательно готовила какие-нибудь обновочки, пекла бисквит или шарлотку. Она была рукодельница и нашила девочкам всяких красивых платьев.
Когда осенью 1942 года Нина в фуфайке, снятой с мертвого нашего солдата, и перевязанной толстой веревкой, стояла в очереди за хлебом, а потом тащила на себе три, а то и четыре буханки, она часто вспоминала воздушные пироги, которые мама пекла по воскресеньям и сшитое специально для нее шелковее платье в горох с руками-фонариками.
Мама умерла в январе 1941 года, как потом ей объяснила Валентина Николаевна, женщина, с которой отец сошелся через три месяца после этого, от подпольного аборта. Она и тетя Лариса, папина сестра, с которой Нина никогда не встречалась, потому что та жила в районе завода «Красный Октябрь» и к ним не приезжала, были обе беременны, но из-за слухов о надвигающейся войне, решили не рожать. В 1936 году советское правительство запретило аборты, и сделать их теперь можно было только за деньги у врачей, оперировавших иногда прямо на дому подручными средствами. Вот мама с тетей Ларисой и решились. По словам мачехи, мама умерла не сразу. Вернулась домой после операции, к вечеру у нее поднялась температура и сильно заболел живот, вызвали скорую, отвезли в госпиталь, но лечить не стали. К ней пришел следователь и начал спрашивать, у кого она сделала аборт. «Мать твоя, – говорила Валентина Николаевна, – рот на замок и не признается, а следователь ей: пока не скажете, доктор к вам не подойдет. Ну, она и домолчалась до смерти. У Астраханского моста много таких похоронили». Про Ларису Нина узнала потом, что она погибла в самый страшный день бомбежки, 23 августа – на ее дом упала бомба и погребла под собой и Ларису, и двоих ее детей, прятавшихся в погребе.
Через три месяца после смерти мамы, отец привел в их квартиру на улице Огарева Валентину Николаевну Овчинникову, пышную белотелую женщину, старше его на пять лет и имевшую двоих девочек от предыдущего брака – Тамару, семнадцати лет и десятилетнюю Катю. Мужа Валентины Николаевны, директора совхоза, расстреляли в 1937 году за вредительство.
Валентина Николаевна старалась не делать различий между своими детьми и Куприяновыми, но у нее не всегда получалось. Могла и накричать, и по руке шлепнуть, но так, не больно. Между собой девочки жили дружно, а Мишатка был еще в том возрасте, когда любой кто тебе улыбнется, самый лучший товарищ.
Когда Гитлер напал на СССР, отец сразу записался добровольцем на фронт. Нина хорошо помнила тот день, потому что лежала в больнице с воспалением легких. Отец пришел проститься к ней в палату. Он был чисто выбрит, в свежей рубашке, пах одеколоном, табаком и сапожным дегтем. В окна детской палаты, где кроме Нины лежало еще семь человек, ярко светило солнце, на слепящем огненном фоне, фигуры входивших обрисовывались с тонкой и мягкой отчетливостью, окутываясь густой янтарной дымкой. От горести предстоящей разлуки слезы хлынули у нее из глаз. Отец говорил, что идет биться с фашистами до последней капли крови, до последнего вздоха, чтобы они не причинили зла его дорогой Нине. А когда наша страна победит врагов, и он вернется домой, они все вместе с Ириной и Мишаткой, который к тому времени подрастет, пойдут в зоопарк или в цирк смотреть на слонов и есть мороженное.
Так и остался отец в памяти, погруженный в солнечный туман со смеющимися глазами в лучиках морщин. Погиб рядовой Куприянов, 1899 года рождения, беспартийный, из рабочих, почти сразу же, в котле, кипевшем под Вязьмой.
Осенью 1941 года, когда Нина давно выздоровела и уже отучилась несколько дней в первом классе, Валентина Николаевна вместе с другими женщинами стала ездить на рытье канав, так она называла строительство военных укреплений вокруг города, на которые добровольно-принудильно мобилизовывали оставшихся в городе жителей. Нина слышала, как в беседах с подругами и со своей сестрой, тетей Таней, мачеха недоумевала, зачем их гоняют на бесполезные работы. «Мы ведь в глубоком тылу, – говорила она с раздражением, – враг за тысячу километров, на кой ляд строить эти рубежи?!» Подруги и тетя Таня кивали и соглашались с Валентиной Николаевной, но от работы не увиливали, послушно забирались в грузовики и ехали в степь. Домой мачеха возвращалась в полном изнеможении, согнутая так, словно весь день таскала на спине тяжелый мешок, ладони стерты до кровавых мозолей.
На следующий год весенний паводок уничтожил почти все оборонительные сооружения, сведя на нет труд тысяч людей. Ставка выпустила приказ: немедленно восстановить Сталинградский обвод и Валентина Николаевна с товарками, кряхтя и перебраниваясь, но без особого ожесточения, скорее по привычке, поехали рыть канавы наново. Тетя Таня к тому времени работала на тракторном заводе, где для фронта собирали танки, поэтому от строительных работ ее освободили.
По выходным у Валентины Николаевны собиралось общество, состоявшее из подруг и сослуживиц, они пили чай в кухне, обсуждали последние новости и, как водится, сплетничали. Нина и Катя подслушивали под дверью, а потом пересказывали самое интересное, по их мнению, Ирине и Тамаре.
Из кухонных разговоров Нина узнала, что из города эвакуировали семьи тех, кто состоял в партии и активистов. Кто такие активисты, Нина узнала потом, а тогда просто повторила новое слово. Кто-то из женщин сказал, что Иосиф Виссарионович лично запретил вывозить из Сталинграда женщин и детей, потому что тогда армии некого будет защищать, и город отдадут врагу. После этого общество возмущенно загудело, а кто-то даже крикнул грубое слово.
Потом заговорила одна женщина: