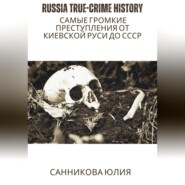По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Сцены из нашего прошлого
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Если бы читатель бегло просмотрел статистику отчетов по самоубийствам, совершенных в СССР в 1920-х годах, то мог бы заметить, что для гражданских лиц характерны были самоубийства на нервной почве и от переутомления, вследствие исключения из партии и романтических разочарований, а также в результате болезней и пьянства. Красноармейцы чаще страдали от жизненного разочарования и семейных раздоров. Самоубийства по вопросу «преступления и наказания» и на фоне неурядиц на службе случались с равной частотой в обеих группах.
Как было сказано выше, и как товарищ Кубяк убедился на собственном опыте, причины самоубийства в каждом отдельном случае переплетались столь тесно, что разделить их было решительно невозможно. Тяжелое материальное положение, необходимость содержать семью и невозможность сделать это, тянули за собой нервные заболевания, а за болезнями в свой черед, как капли дождя из тучи, лилось недовольство службой и разочарование жизнью. Большевики были издерганы и измотаны, срывали зло на домочадцах, пили горькую, а те, что побогаче, проматывали жизнь в ресторанах и борделях.
Взять хотя бы случай Жабрушвили Гиви Георгиевича, члена партии, из Звенигородского уезда Московской губернии, повесившегося 9 января 1925 года на перекладине дома, где проживал с женой, ребенком и престарелой матерью. Из отчета, составленного старшим уездным милиционером, следовало, что Гиви Георгиевич, работавший в трудовой коммуне ОГПУ младшим надзирателем и получавший 48 рублей оклада, испытывал значительные материальные трудности и не мог содержать семью. Десять рублей из зарплаты уходило на аренду дома и пользование коммунальными услугами, 36 рублей в месяц – на еду семье. Оставшиеся два рубля следовало как-то разделить между баней, стиркой, купить керосин, прессу, одежду, обувь, лекарства матери, а также заплатить членские взносы в несколько общественных организаций, в которых состоял глава семьи.
В результате Жабрушвили влез в долги, которые росли от месяца к месяцу. Семилетний сын отправлен был просить милостыню, супруга, Наталья Дмитриевна под пологом ночи занималась проституцией. Гиви Георгиевич от «позорного промысла» жену не отговаривал, просил только не вдаваться в подробности.
От расстройств и непосильной работы – Жабрушвили старался брать на себя повышенную нагрузку – он в один прекрасный день надорвался, слег и пролежал две недели, после чего был уволен со службы, но, к счастью, не из партии, и лишился последних средств к существованию. Вся надежда была теперь на заработок жены и милостыню, которую довольно нерегулярно приносил сын Алексей.
Через два месяца Жабрушвили, наконец, принялся искать работу, но ничего достойного не подворачивалось. От безнадежности своего положения бывший надзиратель запил, причем деньги на водку брал у жены. В пьяном виде труднее вести поиски и совершенно логичным образом Жабрушвили работу так и не нашел.
От регулярных попоек Гиви Георгиевич опустился очень низко, его исключили из партии, жена грозила уйти к нэпману, а это сословие Жабрушвили ненавидел всей душой, сын Алексей огрызался волком на каждое обращенное к нему слово.
События предрешили фатальный исход. Самоубийца оставил записку, очень короткую, состоящую из одной многозначиельной фразы: «Сбился с пути, трудно разобраться в жизни».
Верхоглядов полагал, что во всем виновато время, которое выпало на их долю. В эмоциональных речах доктора проскальзывало недовольство властью, и Кубяк, в чьей душе жила тоска, чувствовал, что разделяет это недовольство. Идеологические ножницы резали ткань времени вкривь и вкось и воспринимались всеми крайне сложно. В гражданскую партия звала бороться с буржуями и меньшевиками, проповедовала военно-коммунистический уравнительный уклад и быт, прославляла пролетарскую бедноту. Но тут война кончилась, начальство затеяло НЭП, и буржуазия, частники, кулаки, с которыми билась революция и которых раньше мели поганой метлой, как тараканы полезли теперь во все стороны, разложили на витринах товары, открыли лавки на каждом углу, устроили товарищества и концессии по продаже чего только можно, заломили цены. Человеку, зараженному духом революции, смотреть на такое мракобесие было тошно. «За что боролись?», «Как жить в темную эпоху НЭПа?», – вопрошали самоубийцы в своих последних корреспонденциях.
Разлад между тем, за что боролись, и тем, что в итоге получилось, заставил многих задуматься, а некоторых, особенно пылких или нервных покончить с собой.
– Науке известен травматический синдром, – заявил как-то Верхоглядов и, увидев недоуменный взгляд Кубяка, пояснил. – Человек реагирует так на психологическую и физическую нагрузку от войны. Реакция, выражающаяся в душевной боли, кошмарах, бессонице, наступает чуть позже, когда опасность миновала, и затрагивает самых тонких и чувствительных.
Кубяк не слишком хорошо понял, в чем заключается травматический синдром, и не считал его причиной, достойной внимания, зато соглашался, что власть, действительно, не делает всего того, что обязана делать, не облегчает людям жизнь, а наоборот загоняет под лавку, отбирает последнее, утрамбовывает в коммуналках, бросает на произвол судьбы больных и немощных, в общем, ведет себя так, будто на народ ей наплевать.
Подавляющее большинство самоубийц, как следовало из отчетов, обитало в полуразрушенных, тотально уплотненных общежитиях и коммунальных квартирах. В них стандартно отсутствовал ремонт и уборные, в помещениях стояли грязь и сырость, вызывавшие у детей и взрослых простуду и чахотку. Некоторые, правда, жили на частных квартирах с достаточным метражом и относительно хорошими культурно-бытовыми условиями, но высокой арендной платой. Кто-то прозябал в старых кухнях и коридорах по двадцати аршин на место, другие – на чердаках, в казармах, в темных углах.
Мария Ивановна Попкова, 1903 года рождения, наложила на себя руки, из-за невозможности переносить убогость условий, в которых она существовала вместе с мужем. Три семьи, в том числе и Попковы жили в одной из комнат коммунальной квартиры на Большой Садовой улице. Комнату поделили на ячейки ширмами, спали в ванной и на полу. Самовара во всей квартире не имелось, как не было и топчанов. Что уж говорить о мебели, предметах хозяйственного обихода и декоративных украшениях! Для всего этого не нашлось места, всю полезную площадь занимали люди.
В предсмертной записке Мария Попкова написала, что устала жить 24 часа в сутки словно на вокзале. Ей душно, тошно и неприятно. Хоть криком кричи. Поэтому 12 сентября 1925 года она взяла наган, вышла в подъезд и выстрелила себе в сердце. Умерла она на следующий день в больнице, перед смертью попросив прощения у мужа. Муж Попковой, Григорий Гаврилович, застрелился 19 сентября 1925 года на том же месте, где неделю назад стрелялась его жена. Он не стал повторять ошибок Марии и направил пистолет прямо в лоб. Пуля снесла половину головы и застряла в стене, откуда ее, как ни старались, так и не смогли отковырять. Самоубийца умер на месте. Предсмертной записки он не оставил. Ответственный работник, заполнявший регистрационный лист, квалифицировал самоубийство Попкова, как имеющее романтическую подоплеку. Выходило будто молодой человек не смог пережить разлуки с горячо любимой женой.
Кубяк не был уверен в этом на сто процентов и думал, что в деле Попковых первична заевшая людей среда. Романтическая же подоплека была, к примеру, в случае Перверзева Иосифа Вениаминовича, техника из химической лаборатории, 1894 года рождения, который ушел из жизни, выпив цианистый калий, потому что жена его попала в окружение буржуазии нового типа, проще говоря, связалась с группой нэпманских женщин, жен и дочерей торговцев, и погрязла в яме обывательщины. Перверзев, пока у него были силы, сопротивлялся тлетворному влиянию буржуазного быта, впрочем, жена его в эту яму за собой не тащила, а единолично жила веселой жизнью. Иосиф Вениаминович жену любил и сильно ревновал. В листке самоубийства имелась приписка, что женщина, действительно, была красива и молода, неудивительно поэтому, что муж боялся, что ее похитит удачливый соперник.
Так и получилось. Перверзева, «ловко маневрируя своими чарами» (так было сказано в отчете), обольстила одного крупного начальника, кажется, завбазой, и сообщила мужу, что уходит от него. Иосиф Павлович не перенес удара и предпочел убить себя, чем жить покинутым. В предсмертной записке он освобождал жену от себя, пусть та будет счастлива, а он был счастлив только с нею, но раз она уходит, то что ж…
«Вот где настоящая любовная прокладка! – рассуждал Кубяк – А в истории с Попковыми никакой прокладки нет. Там должны стоять «тяжелые материальные условия», а вовсе не романтика!
Случай с Давидсон тоже нельзя было отнести к историям из личной жизни, несмотря на то, что Давидсон была женщиной, притом замужней и выстрелила в себя из-за того, что муж – Коренков издевался над ней, бил, неоднократно изменял и рассказывал направо и налево о своих похождениях. Он фактически довел Давидсон до самоубийства. Бедная девушка, издерганная учебой, измотанная жизнью в общежитии, истекающая кровью после третьего аборта, который еще неизвестно чем бы кончился, вполне возможно, что и смертью, не вынеся очередного издевательства, переполнившего чашу терпения, выскочила из квартиры, где Коренков с друзьями играл в карты и пил алкогольные напитки, и выстрелила в себя.
Взгляд Кубяка цеплялся за отчеты с романтическим подтекстом, в них иногда кипели нешуточные страсти. Верхоглядов же по долгу службы или в результате профессиональной деформации, возраста он был солидного, выделял листки с причинами медицинского характера.
Однажды доктор участвовал в партийно-врачебной комиссии, сформированной в Нижегородском губкоме, и вынес из работы массу полезной информации.
Комиссия выясняла состояние здоровья большевиков. Как оказалось, в Нижнем Новгороде почти полностью отсутствовал здоровые коммунисты, причем заболевания, которыми страдала партийная ячека, группировались согласно уровню выполняемой работы. Об этом курьезном феномене в сдвоенном ноябрьско-декабрьском номере за 1925 год «Известий ЦК ВКП(Б)» Верхоглядовым была написана довольно большая заметка. Желающих приглашаем ознакомиться с нею лично.
Главная закономерность заключалась в том, что чем выше по должности был партийный работник, тем чаще у него отмечались неврастения и туберкулез. Работники губмасштаба почти поголовно страдали нервными заболеваниями и чахоткой, уездные болели ими не так часто, но все равно в значительной степени, тогда как рядовые коммунисты в основном страдали ревматизмом, малокровием и стенокардией.
Революционная работа и связанная с нею биопсихологическая нагрузка негативно влияла на здоровье партийных работников. Отчего так происходило? – ставил вопрос ребром Верхоглядов в своей заметке. Было над чем задуматься!
Изнемогающие от возложенного на них партией непосильного бремени, мучившееся от бессоницы и ночных кошмаров, падавшие в обморок от малейшего усилия – таков был совокупный портрет большевика 1920-х годов.
Телятьев Ибрагим Ибрагимович, секретарь уездного парткома работал по пятнадцать часов в день, без выходных и регулярно ночевал на рабочем месте. Через две недели такой гонки, он, вставая из-за стола, заваленного бумагами, потерял сознание, был уложен на печь, где пролежал целые сутки, еле подавая признаки жизни. Встав на ноги, он тут же снова сел за стол и принялся писать какой-то отчет или заполнять ведомость, попросив товарищей его не беспокоить. Так он просидел ночь. Утром Телятьева нашли висящим в петле. Предсмертная записка, нацарапанная на клочке конторской бумаги, гласила: «Не могу больше, не серчайте, граждане…».
Телятьеву было сорок два года, возраст зрелости, случай, следовательно, был классическим подвидом нервного истощения. Чаще встречалась, однако, неврастения свежая, молодая, косившая двадцатилетних. Были среди них и те, кто разочаровался в новом строе и большевистской партии. Их самоубийства означали возмущение, отказ подчиняться, бунт, крамолу.
Лобков Михаил Васильевич, молодой коммунист, недовольный советской властью, решил покончить собой способом совершенно неоригинальным – он повесился в подъезде дома в Орликовом переулке, где проживал с беспартийной гражданкой Фатиной, девятнадцати лет. Нетипичной была предсмертная записка. Вместо того чтобы черкнуть пару строк на листке, вырванном из тетради, и оставить листок там, где его обнаружат родственники, как это делало подавляющее большинство суицидентов, Лобков отправил пространное письмо в редакцию газеты «Гудок», где изложил мотивы, по которым он решился на отчаянный шаг.
Приведем здесь выдержки из лобковского письма, которое, как читатель мог догадаться, опубликовано не было, несмотря на то, что отправитель просил, чтобы его обнародовали. Были ли шанс у Михаила Васильевича? Вряд ли. По крайней мере сотрудник отдела читательской почты «Гудка» и особист из ОГПУ, которому было передано письмо, ознакомились с предсмертным текстом Лобкова, а кроме них его прочли Кубяк с Верхоглядовым, так что в какой-то мере желание отправителя сбылось.
«Может ли быть осуществлен коммунизм, то есть равная или почти равная жизнь для всех граждан? – задавался вопросом Лобков в самых первых строчках, и сам же отвечал, – Да, может осуществиться коммунизм. Только для этого всем идейным коммунистам, в том числе и народным комиссарам, не надо быть новыми современными партократами, то есть не выделяться благодаря своему образованию и умственному развитию от простых рядовых рабочих и крестьян, как отделялись первые партократы от первобытных коммунаров, то есть не получать в месяц 192 рубля, не только тогда, когда был голод в Поволжье и умирали люди с голоду, но и сейчас, а никогда не выделиться от массы».
По поводу того, кого Лобков считает партократами, у Кубяка с Верхоглядовым вышел спор. Кубяк считал, что партократы, коих Лобков называет «первыми», – это умерший два года назад Ленин, а вместе с ним Троцкий, Дзержинский – этот умрет через полтора месяца от описываемого в настоящем рассказе момента и соратники устроят ему пышные похороны, прозванные в народе шабашем – Зиновьев, Каменев и, возможно, Калинин. Доктор возражал, что под партократами Лобков подразумевает первых патриархов – Авраама, Еноха и Ноя, просто ошибся в написании. Первобытными коммунарами доктор предлагал считать еврейский народ, родоначальниками которых и являлись вышеозначенные праотцы.
«Я не могу подробней выразить все мысли, – рассуждал дальше Михаил Лобков, – потому голодный безработный во вшах, словом, завидую недавно удавившемуся поэту Есенину и быть может встречусь с Есениным раньше, чем с красой природы – весной. Может быть, мне и жизни остается еще одна неделя, но все-таки я, любя трудовое крестьянство и простых рабочих, скажу за всех. Каждый рабочий и крестьянин чувствует, что можно жизнь лучше устроить, чем она есть, то-есть, представить полную свободу слова. Ведь от слов как бы они не были грубы коммунистам не больно, а если больно, то я скажу так: не слышать их еще хуже. Потому что истинные настроения рабочими не обнаруживаются, так как каждый боится сказать или писать Советской власти чем он ею недоволен, этой своей властью. И чувствует в смысле свободы слова и печати также тяжко как при царе, то есть если скажешь против власти правду, выразишь свои недовольства и обиды, то будешь объявлен изменником дела революции. Раньше сажали за свободу слова революционеров, теперь революционеры сажают простой народ. Если я сумею избежать участи Есенина, то постепенно буду, несмотря на вши, на голод и прочее говорить правду».
Сумбурный текст свидетельствовал о том, что писавший находился в растрепанных чувствах, а может принял рюмку для успокоения. Как бы то ни было, незавидная участь крестьянского поэта Есенина все-таки постигла первобытного коммунара Лобкова.
– Массовое насилие 1918 года, к которому прибегали большевики – вот корень зла. Ведь как они смотрели на мораль? Примитивно! Право на жизнь? К черту. Право убивать – оно им было нужно! В том числе и право убивать себя. И вот, пожалуйста, имеем, что имеем, – говорил Верхоглядов.
Чистейшая правда! Навык убивать, полученный красными в 1918 и закрепленный в последующие годы, в момент затишья, который совпал с НЭПом, неизбежно приводил к депрессиям и самоубийствам. Смерть сделалась вещью обыденной, заурядной. И убивать себя стало так же привычно, как убивали других несколько лет назад. К примеру, помощник командира Ванеев, бивший Врангеля в Крыму, вырезавший не одну казачью станицу и страдавший тем, что сегодня называют депрессией на фоне посттравматического расстройства, осложненной алкогольной зависимостью, в один прекрасный день построил шеренгой взвод красноармейцев, скомандовал «Внимание!» и, когда все глаза уставились на него, вытащил из кобуры пистолет и выстрелил в себя.
Артиллерийский техник Семен Германович Франк страдал вялотекущей неврастенией, его грызла тоска, как он частенько говорил товарищам «за все ненормальности в части». Руководящая группа работников прямо на глазах у рядового состава в течение трех лет занималась пьянством, кутежом, картежничеством, растратой государственных денег, склонением к проституции сотрудниц разных учреждений и, по мнению Франка, дискредитировала таким образом партию. Круговая порука, которой были связаны многие в части, где служил Франк, довела его до ручки, и он пустил пулю в лоб.
Реальное и идеальное так часто не совпадало в сознании советских граждан, что они в буквальном смысле слова чувствовали себя потерянными, оказавшимися словно на другой планете. Настоящая жизнь осталась там, где свистели пули и сверкали шашки, ныне же наступило беспросветное, безрадостное существование.
В 1928 году Алексей Толстой написал рассказ «Гадюка», где точно передал чувство беспомощности, оторванности от мира, пошлости жизни на гражданке, сформировавшееся у тех, кто прошел войны и революции, кто в 22 года, как героиня рассказа, умирал три раза, но каждый раз воскресал. Для чего? Для жизни в тесной коммуналке, обмена сплетнями и ожидания нового мира, который никогда не наступит?
Развязка «Гадюки» закономерна, Ольга Вячеславовна, «стерва с взведенным курком» всю свою сознательную жизнь шла к этой трагедии. Из вихря гражданской войны она вынесла только одно – умение убивать. Как такому человеку ужиться с самим собой и окружающими в мирной жизни? Роковая ошибка, в которой выразились вся боль, все чувства, сдерживаемые много лет, отняла у нее последние силы, довела до ручки. Иного способа решать проблемы как с помощью револьверчика, висящего над кроватью, у девушки не нашлось.
Подопечные Кубяка и Верхоглядова направляли револьверчики себе в грудь, Ольга Вячеславовна выстрелила в другого. Кто знает, возможно потом она покончит и с собой…
Много самоубийц было среди исключенных из партии. Каждый десятый уходил из жизни по этой причине.
Комсомолец Шурпа работал на селе и был снят с должности секретарем райкома, который посчитал, что тот не соответствует своему назначению. Лишенный средств к существованию Шурпа попал в тяжелую нужду и, по словам знакомых, голодал и вынужден был побираться. Перед самоубийством Шурпа был в Москве и, вернувшись в село, рассказывал товарищам-комсомольцам, цитата: «мы, мол, голодаем, а там с жиру бесятся». Однажды вечером, Шурпа взял винтовку, пошел на могилу Макарова, своего друга по военным годам, и там застрелился. Записки он не оставил. Вероятно, думал Кубяк, изучая дело Шурпы, он и к Макарову, верному борцу, пошел, чтобы пожаловаться на несправедливую сытую жизнь в столице, а там, не вынеся страданий, решил, что жить ему долее незачем.
Почти о том же писал в двух предсмертных письмах: к заворгу укома и в обком, уездный военком Мордюков, перерезавший себе вены в феврале 1925 года. У него сильно нуждались родители и Мордюков, несмотря на занимаемый пост, не мог обеспечить их необходимыми вещами. В письме Мордюков сообщал, что у него «пожалуй, неврастения и усталость в работе», отношение к нему, как к члену партии и как к военкому – «ненормальное», его не звали «ни на одно заседание оргколлегии укома и фракционное заседание уисполкома», и по этой причине он чуствовал себя невостребованным и «выключенным из политизированной повседневности».
Впрочем, включенность в политизированную повседневность приводила к самоубийствам не реже, чем выключенность из нее. Обязательное участие в разного рода заседаниях, совещаниях, планерках, пленэрах, летучках, собраниях перегружало коммунистов, сжигало дотла на работе.
Обследование производственной ячейки трамвайного депо, секретарь которой Баграмян покончил с собой, бросившись под трамвай, выявило, что Баграмян выполнял девять (!) следующих обязанностей. Он был секретарем ячейки, членом райкома, губкома, горсовета, фракции учпрофсожа, производственной комиссии, правления клуба, месткома и парткором. В течение одного только марта месяца Баграмян участвовал в 49 собраниях и совещаниях по 25 отраслям работы. На всю эту активность у него ушло свыше 150 часов или 18 рабочих дней, причем каждый рабочий день превышал пять часов. В бюджет времени не включались три поездки в подшефную волость, на которые секретарь ячейки потратил 78 часов.
Верхоглядов уверял, что того же рода картина была в Красной Армии.
– Вечером все сидят по Ленуголкам. Иной раз до 12 ночи сидят. А командный состав работает с превышением всех физиологических норм. По 14-15 часов каждый день. А спать и есть когда? А семейная жизнь? А следить за текущей прессой?!
Отдельную строчку в перечне мотивов занимало «преступление и наказание», то есть все связанное с должностными преступлениями, злоупотреблениями властью, проще говоря взяточничеством и казнокрадством.
Самоубийство, как мера избежать наказания, сплошь и рядом было совершенно несопоставимо с тем преступлением, которое совершалось. Однако же советские суды, как мы помним, гуманностью не отличались, и вполне могли, что называется, «впаять» по полной. Комсомолец Кессон покончил с собой, потеряв секретный пакет. Не стал дожидаться ни приговора суда, ни даже самого суда, не узнал даже мнения вышестоящего начальства о совершенном «преступлении». Красноармеец Плужников заснул на посту, а когда это выяснилось, и помком принялся распекать его, то выхватил револьвер и застрелился.
Модные в то время аресты за малейшую провинность, курс на поднятие дисциплины, объявленный партией, негибкость начальства, сделали обстановку в партийных органах тяжелой для работы и стали новым фактором психологического давления. Страх наказания был непосильной ношей, под тяжестью которой изнемогала покалеченная психика большевиков и красноармейцев. Самые ответственные и требовательные к себе могли покончить с жизнью, даже если за ними не было вообще никаких преступлений. Так было в случае с Падчим Иваном Федоровичем, секретарем ячейки кавалерийской школы. Суицидент был уверен, что из-за него ослабла партийная работа и сократилась партийная демократия. От невыносимых мук совести, чувствуя себя последним негодяем, Падчий повесился, за что впоследствии был раскритикован на партсобрании, которое постановило, что основной причиной самоубийства члена ВКП(б) Падчего была его партийная невыдержанность и неустойчивость, а также болезненное психическое состояние.