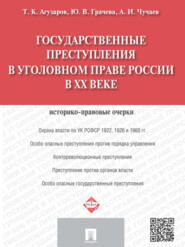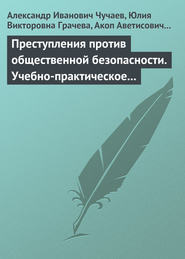По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Судейское усмотрение в применении уголовно-правовых норм: проблемы и пути их решения
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
г) осуществлением правоприменительной деятельности компетентными органами[233 - См.: Решетов Ю.С. Реализация норм советского права. С. 108.]. Именно поэтому данной форме, в отличие от других, придается особое значение; дознаватели, следователи или судьи уполномочены государством и осуществляют свою деятельность от его имени. Прежде всего здесь существенную роль играет Верховный Суд РФ. Во-первых, именно на принятые им решения ориентируются другие правоприменители, во-вторых, в них отражается уголовная политика государства;
д) специально установленной процессуальной формой применения уголовно-правовых норм, самой распространенной из которых выступает обвинительный приговор суда.
В литературе высказано мнение, что при применении норм права полномочные органы одновременно исполняют юридические обязанности и осуществляют юридические права, применение норм является сложной формой реализации права, объединяющей действия по соблюдению, исполнению и использованию норм права[234 - См.: Лазарев В.В. Указ. соч. С. 10.].
Применение одних юридических норм происходит посредством реализации других норм. Поэтому «если не оговаривать, по отношению к какой именно норме рассматривается правоприменение – к той, которая в данном случае применяется и затем будет реализовываться адресатами правоприменительного решения, или к той, которая регламентирует права, обязанности (материальные, процессуальные) правоприменителя, – то едва ли можно классифицировать однозначно эту деятельность как правоприменительную или правореализующую»[235 - Решетов Ю.С. Указ. соч. С. 12.].
Суд, применяя соответствующую уголовно-правовую норму, осуждает лицо за совершенное преступление и назначает наказание, которое будет исполняться посредством реализации уголовно-исполнительных норм. «Будучи непосредственной реализацией одних норм права, данные акты одновременно выступают в качестве необходимого, своеобразного средства, актуализирующего деятельность по реализации иных норм права»[236 - Там же. С. 14.].
В процессе применения уголовно-правовых норм могут соблюдаться, исполняться и использоваться нормы: конституционные, уголовно-процессуальные, уголовно-исполнительные, собственно уголовно-правовые и других отраслей права.
Взаимодействие применения правовых норм с их использованием, исполнением и соблюдением создает механизм реализации норм права, порождает те качественные особенности, которые присущи ему как целому.
Таким образом, применение уголовно-правовых норм – это принятие в установленной процессуальной форме индивидуально-конкретного решения компетентными органами либо в рамках охранительных уголовно-правовых отношений по вопросу об уголовной ответственности (во всех возможных аспектах), либо в пределах регулятивных отношений – по вопросу о назначении принудительных мер медицинского характера невменяемому.
А.В. Наумов несколько иначе определяет рассматриваемое понятие, а именно как «государственно-властную деятельность компетентных органов и должностных лиц. направленную на решение вопроса (положительное или отрицательное) об уголовной ответственности и наказании лица, совершившего преступление, либо устанавливающую правомерность поступков лица и освобождающую его от уголовной ответственности и наказания»[237 - Наумов А.В. Указ. соч. С. 44–45. См. также: Колосовский В.В. Ошибки в квалификации уголовно-правовых деяний: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2003. С. 12.].
Е.В. Благов обоснованно полагает, что такое видение применения уголовно-правовых норм не отвечает в полной мере общетеоретическому представлению о правоприменении как организующей деятельности, поскольку деятельность, направленная только на решение соответствующих вопросов, ничего организовать не способна. «Более того, не совсем логично включать в искомое понятие, кроме данной, еще на самом деле организующую деятельность (устанавливающую правомерность поступков и освобождающую от уголовной ответственности и наказания)»[238 - Благов Е.В. Указ. соч. С. 67–68.].
Последнее замечание автора нельзя поддержать в полном объеме. С одной стороны, стоит согласиться, что деятельность, «устанавливающая правомерность поступков», вряд ли является правоприменительной, поскольку речь идет о нормах гл. 8 УК РФ, реализуемых самими гражданами путем использования тех прав, которыми их наделяет уголовный закон. Норма, реализованная в форме использования, соблюдения, исполнения, не может быть повторно применена компетентными органами.
С другой стороны, А.В. Наумов бесспорно прав, включая в правоприменительную и деятельность по освобождению от уголовной ответственности и наказания, так как она обладает всеми чертами правоприменения.
А.С. Шляпочников отмечал, что «применение уголовно-правовых норм – это основывающийся на. уголовном законе властный волевой акт государственного органа, призванного вести борьбу с преступностью, опирающийся на установленную по уголовному делу объективную истину в вопросе о виновности или невиновности лица, привлеченного к уголовной ответственности»[239 - Шляпочников А.С. Толкование советского уголовного закона. М., 1960. С. 47.].
В этом случае материально-правовое определение излагается с процессуальной позиции. Вряд ли такой подход можно признать обоснованным.
Е.В. Благов предлагает определение, согласно которому «применение уголовного права – это принятие и закрепление решения о предусмотренности (или непредусмотренности) установленных фактических обстоятельств в соответствующей норме и об определении (или неопределении) содержащейся в ней меры уголовно-правового характера»[240 - Благов Е.В. Указ. соч. С. 73.]. Проанализируем его.
Во-первых, представим ситуацию, когда следователь или суд, рассмотрев материалы уголовного дела, пришел к выводу «о непредусмотренности установленных фактических обстоятельств в соответствующей норме»; иными словами, об отсутствии в деянии лица состава преступления. В этой ситуации подлежат применению нормы уголовно-процессуального права, в частности ст. 24 УПК РФ. Поэтому решения по подобным вопросам нельзя считать применением именно норм уголовного права.
Во-вторых, из авторского определения не видно, что формой реализации закрепленных в ст. 97, 100–102 УК норм является применение. Вместе с тем такая деятельность обладает всеми признаками, присущими применению как особой форме реализации уголовно-правовых норм, она невозможна без участия компетентных государственных органов.
В-третьих, дефиниция не позволяет сделать вывод, что ею охватываются вопросы реализации норм об освобождении от уголовной ответственности и наказания, хотя непосредственно в работе Е.В. Благов к мерам уголовно-правового характера относит наказание, а также институты освобождения от уголовной ответственности и наказания[241 - См.: Благов Е.В. Указ. соч. С. 6–7.]. В науке уголовного права традиционно под мерами уголовно-правового характера понимают наказание, конфискацию имущества, принудительные меры медицинского характера и принудительные меры воспитательного воздействия. Вкладывая иной смысл в устоявшийся термин, стоило уточнить его содержание при определении понятия применения уголовного права. В противном случае меры уголовно-правового характера в дефиниции будут толковаться традиционно.
В-четвертых, автор неточно определил не только само понятие, но и выбрал для него неудачный термин – применение уголовного права. Уголовное право как понятие, как известно, имеет несколько значений. Если речь идет об уголовном праве как об отрасли права, то применить нормы всей отрасли одновременно невозможно. Следовательно, целесообразнее использовать другую словесную конструкцию – применение нормы уголовного права.
Нестандартное представление о применение уголовного закона предложено В.Г. Беляевым. Под ним он понимает «положительный социальный результат правомерной деятельности правомочных органов и лиц по достижению целей данного закона путем реализации установленной им ответственности»[242 - Беляев В.Г. Применение уголовного закона. М., 2006. С. 126.].
Такое определение скорее можно считать неким принципом применения уголовно-правовых норм, нежели понятием применения как специфической формы реализации норм уголовного права. В нем не в полной мере отражены сущностные черты рассматриваемого явления; кроме того, непонятно, что имеется в виду под «положительным социальным результатом» и как быть (как именовать эту форму), если этот результат не наступил? Предложенная автором дефиниция не содержит ответа на поставленные вопросы.
Вызывает возражение точка зрения некоторых специалистов[243 - См., напр.: Недбайло П.Е. Применение советских правовых норм. С. 125–176.], относящих правотворческую деятельность к числу правоприменительной деятельности. По своему содержанию применение отличается от правотворческой деятельности. При правотворчестве создаются новые нормы права, которые распространяются на каждого, кто является участником общественных отношений, предусмотренных данными нормами, тогда как в результате применения общие положения закона адресуются компетентными органами конкретным субъектам уголовно-правовых отношений.
Некоторые считают, что применение права занимает главное место в реализации норм права, поскольку в обществе основная масса правовых требований и дозволений осуществляется под контролем народа с помощью специальных государственных органов[244 - См.: Решетов Ю.С. Указ. соч. С. 95.].
Думается, что имеет место переоценка роли правоприменения. Действительно, потенциально многие уголовно-правовые нормы могут быть применены, однако главное в реализации норм права – не их применение, а саморегулирование собственного поведения участниками регулятивных уголовно-правовых отношений.
Процесс применения уголовно-правовых норм достаточно сложный, требующий от соответствующих должностных лиц не только хороших знаний законодательства, теории права, материалов судебной практики, но также высоких моральных и нравственных качеств[245 - Очевидно, что правоприменитель должен обладать высоким уровнем правосознания, которое позволит при определенной «свободе выбора» принять правильное решение (см.: Пивоварова А.А. Значение правосознания судьи для эффективности уголовного наказания // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: сб. материалов Третьей Международной научно-практической конференции. М., 2006. С. 121).]. Это обусловлено тем, что в уголовном законе невозможно и не нужно предусматривать все правила его применения, конкретные ситуации, которые могут встретиться в реальном уголовном деле. Поэтому решение многих вопросов оставлено на усмотрение правоприменителя, например, таких как:
– применение оценочных понятий (соотнесение признаков совершенного деяния с оценочными признаками состава преступления);
– выбор конкретного вида и размера наказания;
– освобождение от уголовной ответственности и наказания;
– применение принудительных мер медицинского характера и воспитательного воздействия.
Причем большим объемом полномочий правоприменители наделены уголовным законом для индивидуализации уголовной ответственности. Хотя дифференциация и индивидуализация уголовной ответственности тесно взаимосвязаны, следуют одна за другой, однако они имеют различную правовую природу. При дифференциации законодатель очерчивает общий контур, рамки наказуемости, учитывая поддающуюся типизации степень общественной опасности деяния. Здесь усмотрение исключено, поскольку субъектом дифференциации выступает законодатель. При индивидуализации ответственности, выражающейся в оценке индивидуальной степени общественной опасности содеянного, осуществляемой в процессе применения норм уголовного закона, должностное лицо наделено некоторой свободой, например, в выборе срока или размера наказания в рамках санкции, в которой уже учтены характер и типовая степень общественной опасности преступления.
Чем подробнее регламентировано в Уголовном кодексе усиление и ослабление ответственности, тем меньше сфера индивидуализации и свободы правоприменителя действовать по своему усмотрению, и наоборот. Задача уголовной политики найти оптимальный баланс между дифференциацией и индивидуализацией ответственности. С одной стороны, детальная дифференциация таит опасность мелочной опеки правоприменителя. С другой стороны, необоснованное использование оценочных признаков, широко и абстрактно сформулированные основания освобождения от уголовной ответственности, редко используемые квалифицирующие или привилегированные признаки состава преступления, замена последних обстоятельствами, смягчающими или отягчающими наказание, ведут к чрезвычайному расширению усмотрения[246 - См.: Лесниевски-Костарева Т.А. Дифференциация уголовной ответственности: теория и законодательная практика. М., 1998. С. 21–23.].
В приведенных случаях законодатель осознанно наделяет правоприменителя некоторой свободой при принятии решения. Однако встречаются ситуации, когда «свобода» при принятии решения обусловлена нарушением правил законодательной техники построения уголовного закона.
От подобного усмотрения (негативного) в уголовном законе надо всячески избавляться. Самым эффективным способом видится принятие законов, глубоко и тщательно проработанных, сформулированных с соблюдением и использованием правил и средств законодательной техники.
Несмотря на то что усмотрение играет важную роль в процесс применения уголовно-правовых норм, тем не менее оно не является существенной его характеристикой, так как не всегда при применении норм уголовного права у правоприменителя есть свобода в выборе варианта принятия решения. Например, было задержано лицо, умышленно нанесшее средней тяжести вред здоровью другого человека (ч. 1 ст. 112 УК), с момента совершения преступления прошло шесть лет. Если не было уклонения от привлечения к уголовной ответственности, то применяться должен п. «б» ч. 1 ст. 78 УК, на основании которого лицо подлежит освобождению от уголовной ответственности. При применении норм, закрепленных в ч. 1 ст. 112 и п. «б» ч. 1 ст. 78 УК, усмотрение отсутствует[247 - Некоторые авторы считают усмотрение неотъемлемым элементом правоприменения. (см.: Берг Л.Н. Судебное усмотрение и его пределы (общетеоретический аспект): автореф. канд… юрид. наук. Екатеринбург, 2008. С. 10; Кораблина О.В. Усмотрение в правоприменительной деятельности (общетеоретический и нравственно-правовой аспекты): дис… канд. юрид. наук. Саратов, 2009. С. 8).].
По поводу юридической природы экстрадиции (ст. 13 УК), амнистии (ст. 84 УК) и помилования (ст. 85 УК) в теории уголовного права ведутся споры[248 - См.: Благов Е.В. Актуальные проблемы уголовного права (Общая часть). Ярославль, 2008. С. 43; Он же. Общая теория применения уголовного права. Ярославль, 2003. С. 38–39; Он же. Изъятие нематериально-правовых предписаний – стратегическая линия развития уголовного права // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: материалы Второй международной научно-практической конференции. М., 2005. С. 16–19; Сотников С.А. Амнистия в уголовном праве России. М., 2010. С. 53; Гришко А.Я., Потапов А.М. Амнистия. Помилование. Судимость. М., 2010. С. 71–72; Определение Конституционного Суда РФ от 15 апреля 2008 г. № 302-О-О; Определение Конституционного Суда РФ от 27 мая 2004 г. № 190-О; Определение Конституционного Суда РФ от 15 января 2009 г. № 276-О-О; Определение Конституционного Суда РФ от 15 января 2009 г. № 280-О-О; Определение Конституционного Суда РФ от 15 января 2009 г. № 281-О-О; Определение Конституционного Суда РФ от 15 января 2009 г. № 282-О-О; Определение Конституционного Суда РФ от 15 января 2009 г. № 283-О-О; Определение Конституционного Суда РФ от 15 января 2009 г. № 284-О-О // СПС «КонсультантПлюс»; Определение Конституционного Суда РФ от 11 января 2002 г. № 60-О; Определение Конституционного Суда РФ от 11 января 2002 г. № 61-О // Вестник Конституционного Суда РФ. 2002. № 4; Определение Верховного Суда РФ от 11 марта 2008 г. № КАС08-64 // СПС «КонсультантПлюс»; постановление Конституционного Суда РФ от 5 июля 2001 г. № 11-П (п. 6) // СЗ РФ. 2001. № 29. Ст. 3059.], поэтому вопросы судейского усмотрения в реализации указанных норм в работе специально не рассматриваются.
Коротко подведем итоги.
1. Применение уголовно-правовых норм – это принятие в установленной процессуальной форме индивидуально-конкретного решения компетентными органами либо в рамках охранительных уголовноправовых отношений по вопросу об уголовной ответственности (во всех возможных аспектах), либо в пределах регулятивных отношений по вопросу о назначении принудительных мер медицинского характера невменяемому.
2. Правоприменение является факультативной стадией механизма уголовно-правового регулирования, вступает в действие тогда, когда субъекты в процессе правореализации нарушают регулятивные нормы-предписания. Возникновение правоприменения связывается с обстоятельствами негативного характера, выразившимися, как правило, в совершении общественно опасного деяния.
3. Чаще всего применяются охранительные нормы-предписания, но могут быть применены и некоторые регулятивные уголовно-правовые нормы.
4. Усмотрение является не обязательным, но характерным признаком применения уголовно-правовых норм.
ГЛАВА 2
СУДЕЙСКОЕ УСМОТРЕНИЕ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ:
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
§ 1. Судейское усмотрение: понятие и признаки
Из-за недостаточной изученности проблемы судейского усмотрения в юридической науке еще не сложилось единого подхода к определению этого понятия.
А.П. Корнеев, например, предлагает следующую дефиницию: «Судейское усмотрение – это предоставленное суду правомочие принимать, сообразуясь с конкретными условиями, такое решение по вопросам права, возможность которого вытекает из общих и лишь относительно определенных указаний закона, и которое предоставляется ему в целях принятия оптимального постановления по делу»[249 - Корнеев А.П. Административное усмотрение в применении законодательства об ответственности за правонарушения // Проблемы теории и практики административной ответственности в свете решений XXV съезда КПСС и Конституции СССР: материалы научно-практической конференции. М., 1979. С. 66–70.].
В приведенном определении верно подмечена легальность судейского усмотрения: его основанием (источником) является только закон[250 - См.: Ершов В.В. Судебное усмотрение // Тезисы докладов на теоретической конференции аспирантов Института государства и права и юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. М., 1984. С. 12; Марфицин П.Г. Усмотрение следователя (уголовно-процессуальный аспект): дис… д-ра юрид. наук. Омск, 2003. С. 17.]. Применительно к уголовному праву это означает, что при применении уголовно-правовой нормы возможность усмотрения и его пределы могут устанавливаться только Уголовным кодексом. При этом законодатель использует различные технические приемы, с помощью которых правоприменитель наделяется правомочием на собственное усмотрение.
В ряде случаев предоставление определенной свободы в выборе конкретного решения вытекает из конструкции правовой нормы. Для их обозначения предлагаются различные названия.
Так, К.И. Комиссаров, отмечая, что судебное усмотрение является способом применения особого рода правовых норм, считает возможным назвать их «ситуационными», поскольку их действие во многом зависит от конкретной ситуации[251 - См.: Комиссаров К.И. Судебное усмотрение в гражданском процессе // Советское государство и право. 1969. № 4. С. 49–50.].
Однако вряд ли правильно утверждать, что действие нормы зависит от конкретной ситуации; скорее ситуационным можно назвать решение, принимаемое на основе подобных норм.