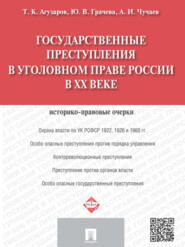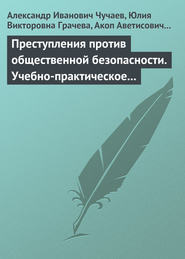По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Судейское усмотрение в применении уголовно-правовых норм: проблемы и пути их решения
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– обязательный учет конкретных обстоятельств совершенного общественно опасного деяния при осуществлении выбора одного из возможных решений.
3. Пределы судейского усмотрения могут уточняться другими уголовно-правовыми нормами, а также нормами иных отраслей права.
4. Пробелы в уголовном праве и судейское усмотрение – понятия несовместимые, поскольку источником (или основанием) последнего может быть только уголовный закон.
5. Судебный контроль за решениями, принятыми на основе усмотрения правоприменителя, должен осуществляться в соответствии со следующими правилами:
во-первых, вмешательство вышестоящих судебных органов в усмотрение нижестоящих допустимо в случаях, когда нарушены установленные законом допустимые пределы усмотрения;
во-вторых, такое вмешательство оправданно, если усмотрение заключается в придании юридического значения фактам, наличие которых не подтверждается совокупностью бесспорно установленных обстоятельств совершения преступления;
в-третьих, предметом судебного контроля должны быть решения, вынесенные на основе усмотрения, которые не согласуются с общепринятой в теории уголовного права и судебной практике трактовкой законодательных терминов;
в-четвертых, контроль над судебным усмотрением обязателен в случаях, когда принятое на основе усмотрения решение не отвечает требованиям законности или справедливости.
§ 2. Правосознание в механизме реализации судейского усмотрения
Судейское усмотрение, помимо уже рассмотренных основных черт, составляющих объективную основу принятия решений, содержит еще и субъективную характеристику – правосознание лица, применяющего уголовно-правовые нормы. Последнее занимает важное место среди факторов, опосредующих выбор меры наказания подсудимому, а также при оценке установленных фактических обстоятельств совершения преступления, при решении вопросов о применении уголовноправовых норм к установленным фактам[311 - См.: Мухин И.И. Важнейшие проблемы оценки судебных доказательств в уголовном и гражданском судопроизводстве. М., 1978. С. 78.] и т. д. Правосознание юриста неизбежно проявляется и в процессе толкования закона, особенно в тех случаях, когда закон не дает окончательного определения того или иного признака состава преступления, а в судебных решениях его содержание не прокомментировано с однозначной определенностью. В этом случае судьи или прокуроры, основываясь на собственном правосознании, вынуждены толковать его содержание[312 - См.: Кудрявцев В. Правосознание юриста // Советская юстиция. 1974. № 10. С. 4.].
Однако его роль, как справедливо писал В.И. Шанин, «выражается не в том, что оно исправляет закон своими критериями, лежащими вне действующего права, а в том, что оно помогает преодолеть отрыв в сознании толкователя применяемой нормы от системы данной отрасли права или права в целом, обеспечивает неразрывную связь толкуемого закона с другими нормами права, помогает уяснить его значение, раскрыть подлинный смысл и конкретное содержание закона в применении к конкретному случаю»[313 - Шанин В.И. Роль социалистического правосознания в укреплении социалистической законности // Труды ВПА им. В.И. Ленина. М., 1958. Вып. 24. С. 179.].
В процессе применения уголовно-правовых норм нередко возникают ситуации, при которых внешне одинаковые обстоятельства по-разному оцениваются судьей (следователем, прокурором или лицом, производящим дознание), что влечет принятие различных решений.
Во-первых, это характерно для случаев, когда действия обвиняемого квалифицируются по статье Уголовного кодекса, в норме которой диспозиция является бланкетной или общественно опасное деяние обрисовано с использованием оценочного понятия либо законодательное положение изложено недостаточно точно, что ведет к различному его пониманию.
Во-вторых, эта проблема возникает при освобождении от уголовной ответственности или от наказания по основаниям, имеющим факультативный характер.
В-третьих, вопрос зависимости решения от судейской оценки фактических обстоятельств особенно остро стоит при назначении наказания: по нормам Уголовного кодекса с санкциями, предусматривающими альтернативно указанные виды наказания; при выборе конкретного размера наказания в рамках, установленных санкцией; при чрезвычайном смягчении наказания в соответствии со ст. 64 УК; при назначении дополнительного наказания, если законом оно предусмотрено как факультативное, и т. д.
Во всех подобных случаях речь идет о возможности судейского усмотрения.
Причина, влияющая на выбор того или иного решения, помимо установленных обстоятельств по делу, видимо, кроется в личности правоприменителя: в уровне его знания норм как уголовного права, так и норм смежных отраслей права, судебной практики не только по конкретным делам, но и разъяснений, содержащихся в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ; в профессиональном опыте; в совокупности правовых чувств, ценностных ориентаций, настроений, желаний и переживаний, характерных для личности (конкретного человека), и, возможно, даже в социальных[314 - См.: Лукашева Е.А. Социалистическое правосознание и законность. М., 1973. С. 53.] условиях его жизнедеятельности. Все перечисленные элементы, влияющие на выработку и принятие решений, образуют в своей совокупности понятие правосознания.
В.Н. Кудрявцев по этому поводу отмечает: «Поведение личности определяется не самими правовыми нормами и содержащимися в них предписаниями, а представлениями об этих нормах и предписаниях, т. е. правосознанием личности»[315 - Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология. М., 1982. С. 77; см. также: Судья и общество: диалектика правосознания и правоприменения. М., 1980. С. 118.].
В ст. 37 УК РСФСР 1960 г., посвященной общим началам назначения наказания, непосредственно указывалось на правосознание как на один из факторов, детерминирующих выбор конкретного наказания («при назначении наказания суд, руководствуясь социалистическим правосознанием…»).
В современной юридической науке, в которой уделялось и уделяется достаточное внимание этой проблеме[316 - См., напр.: Беляев Н.А. Уголовно-правовая политика и пути ее реализации. Л., 1986. С. 171–176; Грошевой Ю.М. Профессиональное правосознание судьи и социалистическое правосудие. Харьков, 1986; Ильин И.А. О сущности правосознания. М., 1993; Ковалев М.И. Роль правосознания и юридической техники в развитии уголовного законодательства // Советское государство и право. 1985. № 8. С. 76–79; Коган В.М. Правосознание и уголовный закон // Советское государство и право. 1983. № 12. С. 66–73; Крыжановский А.Ф. К вопросу о профессиональном правосознании // Проблемы правоведения: республиканский междуведомственный научный сборник. Вып. 45. Киев, 1984. С. 3–7; Лукашева Е.А. Правосознание и укрепление законности в СССР. М., 1957; Соколов Н.Я. Правосознание юристов: понятие, сущность и содержание // Советское государство и право. 1983. № 10. С. 18–25; Соколов Н.Я. Профессиональное сознание юристов. М., 1988; Ткаченко Ю.Г. Методологические вопросы теории правоотношений. М., 1980.], под правосознанием понимают «сферу или область сознания, отражающую правовую действительность в форме юридических знаний и оценочных отношений к праву и практике его реализации, социально-правовых установок и ценностных ориентаций, регулирующих поведение (деятельность) людей в юридически значимых ситуациях»[317 - Общая теория права и государства / под ред. В.В. Лазарева. М., 1994. С. 159. Похожее определение предлагает Р.С. Байниязов: «Правосознание – это система правовых предписаний, идей, взглядов, убеждений, теорий, чувств, эмоций, настроений, психологических переживаний и т. д., складывающихся в процессе освоения правовой действительности, ее отражения, осмысления, познания, чувствования» (Байниязов Р.С. Проблемы правосознания в современном обществе: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 1999. С. 9).].
С точки зрения глубины отражения правовой действительности обычно выделяют три уровня правосознания: обыденное (эмпирическое), научное (теоретическое) и профессиональное[318 - См.: Лазарев В.В. Указ. соч. С. 162.В зависимости от критерия классификации выделяют и другие виды правосознания. Так, Р.С. Байниязов по субъектному составу выделяет: массовое, групповое и индивидуальное правосознание (см.: Байниязов Р.С. Указ. соч. С. 16).].
Естественно, что на процесс применения уголовно-правовых норм, опосредуемый судейским усмотрением, реальное влияние может оказать только профессиональное правосознание, которое в теории права определяется как правовое сознание юристов. Сущность и особенности правового сознания юристов конкретизируются в содержании правовой идеологии и правовой психологии[319 - Попытка свести правосознание лишь к идеологии или психологии неверна и бесперспективна, «ибо чистой мысли не существует, мысль насыщена волениями, эмоциями и страстями» (Бердяев Н.А. Царство Духа и Царство Кесаря. М., 1995. С. 171).В.Н. Кудрявцев, напротив полагает, что правосознание состоит из трех элементов: знания действительного права, отношения к нему и навыков правового поведения (см.: Кудрявцев В. Правосознание юриста. С. 3). Позиция В.Н. Кудрявцева не противоречит разделяемой в диссертации, поскольку «навыки правового поведения» – это не что иное, как выраженное вовне «отношение к праву», его объективированная форма.], в системе присущих данной профессиональной группе правовых знаний, представлений, установок, ценностных ориентаций и т. д.[320 - В юридической науке существует другой подход к раскрытию содержания правосознания, посредством смыслообразующих идей, к которым относят идеи: права, меры, порядка (см., напр.: Малахов В.П. Смыслообразующие идеи правосознания // Труды Московской государственной юридической академии. М., 2001. № 7. С. 61–63; Он же. Природа, содержание и логика правосознания: автореф. дис… д-ра юрид. наук. М., 2001. С. 22).]
Важной составляющей правосознания является правовая идеология, под которой понимают «систематизированное научное выражение правовых взглядов, принципов, требований общества, различных групп и слоев населения»[321 - Гранат Н.Л. Правосознание и правовая культура // Юрист. 1998. № 11/12. С. 2.]. Она должна формироваться как процесс выявления, теоретического осознания, координации и согласования разных общественных интересов путем достижения социального компромисса. Вместе с тем нельзя забывать, что жизненные истоки правовой идеологии находятся в правопсихологических переживаниях ее творцов, в социально-правовой психологии общества. Вне этой среды трудно понять эволюцию правовой идеологии.
Ядром правовой идеологии, ее обязательным компонентом, детерминирующим в наибольшей степени правосознание лиц, применяющих право, выступает знание права[322 - См.: Полянский Н.Н. Вопросы теории советского уголовного процесса. М., 1956. С. 148.], причем не только норм уголовного и уголовно-процессуального, но и норм других отраслей права, а также судебной практики.
Ю.М. Грошевой по этому поводу отмечал, что выработка и принятие решения всегда обусловлены соответствующим уровнем знаний судей, их правосознанием. Эффект функционирования любой системы, достижение поставленной перед ней цели в значительной степени предопределяются качеством решения, которое, в свою очередь, обусловлено правильностью и достоверностью знаний, лежащих в его основе[323 - См.: Грошевой Ю.М. Профессиональное правосознание судьи и социалистическое правосудие. Харьков, 1986. С. 4–5.]. Решение, будучи по своей природе информационным документом (актом), принимается в результате разнообразной и сложной оценки судьями достоверности различных видов информации, тех правовых, этических знаний и знаний о конкретных обстоятельствах исследуемого события преступления, которые должны быть закреплены в их решении. В этом плане исследование проблемы сущности профессионального правосознания, в том числе знания судьи, которое выражается в его решении, приобретает особо актуальное значение. Если бы можно было создать такие условия, при которых знания судей по каждому уголовному делу соответствовали бы требованиям закона, то была бы решена проблема устранения судебных ошибок и достигались бы практически все цели правосудия по каждому уголовному делу, хотя бы в части квалификации и назначения наказания.
Т.А. Костарева, занимавшаяся изучением факторов, порождающих судебные ошибки в процессе применения уголовно-правовых норм, пришла к заключению, что главным субъективным фактором являются «недостатки в юридической подготовке правоприменителей»[324 - Костарева Т.А. О судебных ошибках в процессе применения уголовно-правовых норм (структура, причины) // Уголовная ответственность: основания и порядок реализации. Самара, 1990. С. 72.]. Последние, в свою очередь, ведут, например, к неправильному пониманию содержания квалифицирующих признаков, закрепленных в форме оценочных понятий, применение которых на практике осложнено в силу их формальной неопределенности, что требует от судей оценки данных обстоятельств по своему усмотрению, основанному в первую очередь на правосознании.
Обзоры судебной практики Верховного Суда РФ, а также 63 % опрошенных практических работников[325 - По данным, полученным Е.А. Фроловым и В.В. Питецким, в 1979 г. этот показатель был еще выше и составил 82 % (см.: Фролов Е.А., Питецкий В.В. Гарантии законности и оценочные понятия в уголовном праве // Советское государство и право. 1979. № 6. С. 87–91).] подтверждают сложность применения оценочных понятий. Например, неоднократно указывалось на неправильную оценку нижестоящими судами установленных по делу смягчающих обстоятельств, определенных в Уголовном кодексе как исключительные (ст. 64 УК).
Так, Е. осужден по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК к шести годам восьми месяцам лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с особой жестокостью, мучениями для потерпевшей.
Заместитель Председателя Верховного Суда РФ в протесте поставил вопрос об исключении из приговора и кассационного определения указания на применение в отношении осужденного ч. 2 ст. 68 УК и о смягчении наказания до трех лет лишения свободы.
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ протест удовлетворила, указав следующее.
При назначении наказания районный суд принял во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности Е. (положительно характеризовался по месту жительства и работы), раскаяние осужденного в содеянном, оказание помощи потерпевшей, наличие на иждивении детей, противоправность и аморальность поведения потерпевшей, выразившиеся в ее долгом отсутствии и возвращении домой в пьяном виде, а также в растрате 300 тыс. руб. чужих денег. Учитывая, что Е. ранее был судим, суд назначил ему наказание с изоляцией от общества и с применением ч. 2 ст. 68 УК, так как в его действиях усматривается опасный рецидив преступлений, определив срок наказания в виде 6 лет и 8 мес. лишения свободы.
Между тем обстоятельства, оцененные судом первой инстанции как смягчающие наказание Е., по мнению Судебной коллегии по уголовном делам Верховного Суда РФ, фактически являлись исключительными, предусмотренными ст. 64 УК и, следовательно, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенного преступления. Согласно же ч. 3 ст. 68 УК при наличии исключительных обстоятельств наказание при рецидиве преступлений назначается без учета правил, предусмотренных ч. 2 ст. 68 УК. С учетом этого Судебная коллегия снизила наказание до трех лет лишения свободы[326 - См.: БВС РФ. 2001. № 1. С. 6–7.].
Надо сказать, что президиум Алтайского краевого суда разделил мнение районного суда, полагая, что речь может идти только о смягчающих обстоятельствах, а не об исключительных. Избранная Е. позиция по делу (вину признал частично и утверждал, что жена была избита неизвестными) не свидетельствует об осознании им противоправности своего поведения; его показания о покупке жене лекарств материалами дела не подтверждены; оказание помощи потерпевшей непосредственно после совершения преступления выразилось лишь в вызове «скорой помощи»; поведение Е. не свидетельствует о его заинтересованности в судьбе семьи и детей.
Опубликованные материалы дела не создают полной уверенности в том, что верна оценка обстоятельств именно как исключительных, данная Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда РФ. Это еще раз подтверждает высказанное ранее суждение о решающей роли правосознания судей (особенно Верховного Суда РФ, являющегося последней инстанцией при рассмотрении и разрешении уголовных дел) в процессе принятия решения в случаях, когда законодателем предусмотрены широкие рамки усмотрения.
Сложности применения ст. 64 УК на практике обусловлены наличием не только в норме оценочного понятия (исключительные обстоятельства), но и использованием небезупречной законодательной конструкции.
В ст. 64 УК отмечается, что при наличии исключительных обстоятельств «может быть назначено» более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное преступление. Создается впечатление, что законодатель наделяет правоприменителя правом решить вопрос о смягчении наказания по своему усмотрению. Вместе с тем анализ нормы свидетельствует, что усмотрение относится не к решению о смягчении наказания, а, как представляется, к его форме: суду дано право избрать один из трех предусмотренных законом способов чрезвычайного смягчения наказания. Такую же оценку этому положению дали 54 % экспертов.
Думается, устранению двоякого толкования ст. 64 УК и тем самым сведению усмотрения правоприменителя только к выбору одной из трех форм обязательного смягчения наказания способствовали бы либо разъяснение Пленумом Верховного Суда РФ смысла ст. 64 УК, либо изменение редакции первой части этой статьи таким образом, чтобы она исключала двоякое толкование[327 - Точно и «эффективно могут применяться такие нормы, которые правильно поняты…» [Морщакова Т.Г. Правосознание правоприменителей и прогнозирование эффективности законодательства (уголовно-правовой и уголовно-процессуальные аспекты) // Проблемы совершенствования советского законодательства. Вып. 37. М.: ВНИИСЗ, 1987. С. 134].]. В новом виде она могла бы выглядеть следующим образом: «1. При наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, а равно при активном содействии участника группового преступления раскрытию этого преступления наказание должно быть назначено или ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего кодекса, или суд должен назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен этой статьей, или суд должен смягчить наказание путем неприменения дополнительного вида наказания, предусмотренного в качестве обязательного».
На уровень правосознания судей существенное влияние оказывают знание не только норм уголовного права, но и норм иных отраслей права. Особенно их влияние велико при квалификации преступлений по статьям Уголовного кодекса, содержащим нормы с бланкетными диспозициями, предполагающими, на первый взгляд, достаточно широкие пределы правоприменительного усмотрения.
Сложность процесса квалификации в подобных случаях «заключается не в поиске нормативного материала, в котором раскрывается практическое содержание юридических признаков состава преступления, а в том, что в нынешних условиях законодательной неразберихи разные нормативные акты вкладывают в одно и то же понятие различное содержание»[328 - Рарог А.И. Пределы судейского усмотрения при применении уголовно-правовых норм // Государство и право на рубеже веков: материалы Всероссийской конференции. Криминология. Уголовное право. Судебное право. М., 2001. С. 139; См. также: Он же. Усмотрение правоприменителя при квалификации преступлений // Уголовное право. 2000. № 1. С. 40; Левандовская М.Г. Ущерб и доход как признаки незаконной предпринимательской деятельности // Уголовный кодекс Российской Федерации: актуальные проблемы совершенствования. М., 2001. С. 63–67; Лопашенко Н.А. Преступное и непреступное в экономической деятельности // Государство и право на рубеже веков: материалы Всероссийской конференции. М., 2001. С. 78; Яни П.С. Экономические и служебные преступления. М., 1997. С. 185.].
Не менее существенное влияние на формирование правовой идеологии как составной части правосознания, помимо уголовно-правовых и уголовно-процессуальных норм, оказывает знание судебной практики[329 - См., напр.: Смоленцев Е.А. Значение связи юридической науки и судебной практики для дальнейшего укрепления социалистической законности // Советское государство и право. 1985. № 3. С. 24.], в частности, разъяснений, содержащихся в постановлениях Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации).
П. признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном с особой жестокостью – мучениями для потерпевшего, повлекшем по неосторожности его смерть (ч. 4 ст. 111 УК)[330 - См.: БВС РФ. 2001. № 6. С. 15–16.].
Между находившимися в состоянии алкогольного опьянения П. и З. в лифте дома произошла ссора. З. при выходе из лифта умышленно ударил П. кулаком по голове. Последний на лестничной площадке, имея умысел на причинение тяжкого вреда здоровью З., с особой жестокостью, желая причинить мучения, стал наносить множественные удары кулаками и ногами в различные части тела. В результате полученных телесных повреждений З. скончался на месте происшествия.
Судебная коллегия по уголовным делам Курского областного суда оставила приговор без изменения.
Заместитель Председателя Верховного Суда РФ в протесте поставил вопрос об исключении из приговора квалифицирующего признака ст. 111 УК – совершение преступления с особой жестокостью и мучениями для потерпевшего. Президиум Курского областного суда 20 сентября 2000 г. протест удовлетворил, указав следующее.
В обоснование вывода о виновности П. в совершении указанного преступления суд в приговоре сослался на показания свидетелей, протокол осмотра места происшествия, заключение судебно-медицинского эксперта, акт судебно-биологической экспертизы. Однако в показаниях свидетелей не содержится каких-либо сведений о совершении П. преступления с особой жестокостью и мучениями для потерпевшего.
Осужденный в ходе предварительного следствия и в судебном заседании не признал наличия у него умысла на причинение телесных повреждений с особой жестокостью и мучениями для потерпевшего. То обстоятельство, что П. нанес не менее шести ударов по голове потерпевшему, свидетельствует о наличии у него умысла на причинение З. именно тяжкого вреда здоровью, но не о совершении этого преступления с особой жестокостью и мучениями для потерпевшего. Согласно заключению эксперта все повреждения возникли в короткий промежуток времени друг за другом и являются компонентами черепно-мозговой травмы как единого процесса.
Между тем в п. 8 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» приблизительно очерчен круг обстоятельств, при наличии которых общественно опасное деяние может быть квалифицировано как совершенное с особой жестокостью.
Применение норм права на практике – сложный процесс, складывающийся из ряда этапов, начиная с анализа фактических обстоятельств, образующих в своей совокупности повод для применения нормы права, и заканчивая принятием решения. Причем принимаемое решение не всегда очевидно. Это обусловлено в первую очередь тем, что нормы уголовного права оперируют общими понятиями, а общее понятие представляет собой абстракцию. Уголовно-правовая норма не может содержать (и не содержит) всей массы разнообразных признаков, характерных для каждого конкретного преступления, а включает наиболее значимые, раскрывающие сущность явления[331 - См.: Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. С. 35–37.].
Таким образом, общественно опасные деяния обрисованы в уголовно-правовых нормах с разной степенью абстракции. Чем выше степень абстракции, тем шире границы усмотрения и актуальней роль правосознания как в процессе оценочной деятельности правоприменителя, так и при выборе мер уголовно-правового воздействия. Поэтому в подобной деятельности недостаточно знания норм права, нужно знать еще и его принципы.
Пермским областным судом К. осужден по п. «н» ч. 2 ст. 105 УК[332 - Согласно Федеральному закону № 162-ФЗ от 08 декабря 2005 г. п. «н» ч. 2 ст. 105 УК утратил силу.]. При назначении наказания суд сослался на правила ч. 2 ст. 68 УК. Прокурор опротестовал приговор, указав, что действия К. квалифицированы как убийство по признаку неоднократности, поэтому при назначении наказания следовало руководствоваться положениями не ч. 2, а ч. 3 ст. 68 УК. Однако Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ отклонила протест. В соответствии с ч. 3 ст. 68 УК положение ч. 2 ст. 68 УК не применяется лишь тогда, когда статья Особенной части УК содержит указание на судимость, а по п. «н» ч. 2 ст. 105 УК квалифицирующим признаком является не судимость, а неоднократность[333 - См.: БВС РФ. 2000. № 4. С. 21–22.]