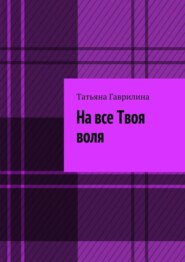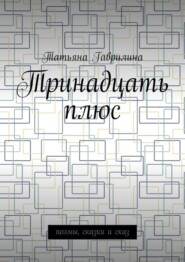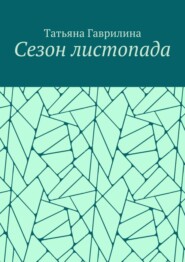По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Последний акт «симфонии»
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Дружеские отношения между царем и Никоном крепли день ото дня. Чувствуя поддержку со стороны царя и его духовника – Стефана Вонифатьева – Никон не только без особых усилий освоился в новой для себя обстановке, но и, легко сменив монашеские отрепья онежского дикаря на цивильную ризу новоявленного настоятеля обители, быстро вошел во вкус исполняемой им роли.
Внешне, и Алексей Михайлович это не однажды замечал, Никон очень походил на его прославленного деда – патриарха Филарета. Все и крепкая стать, и неотразимое мужское обаяние, и несгибаемая воля, и кипучая жажда деятельности, подстегиваемая чрезмерным честолюбием, обращали на себя внимание. А в совокупности и то, и другое и третье представляли собой те качества, которых так не доставало самому Алексею Михайловичу. И хоть в жизни царю Алексею знать своего знаменитого деда не довелось, он умер, когда царевичу едва исполнилось два года, но по рассказам близких к нему людей, он составил в своем воображении образ Филарета именно таким, каким перед ним предстал Никон. Быть может, этим по большей части надуманным сходством и можно было объяснить ту искреннюю душевную привязанность, которую молодой царь питал к своему вдвое старшему другу.
Следует заметить, что появление Никона в Москве совпало по времени с началом проповеднической деятельности кружка «ревнителей благочестия». И хоть как человек далекий от истинного монашеского смирения, проживший многие годы в безлюдной северной глуши, Никон, скорее всего, не разделял реформистского энтузиазма «ревнителей», но, руководствуясь здравым смыслом и тонко улавливая настроение царя, он не только примкнул к кружковцам, но и стал среди них неформальным лидером.
Близкое знакомство с членами кружка «ревнителей благочестия» и частое общение с духовником царя – Стефаном сослужили для Никона хорошую службу, существенно обогатив его представление о культуре церковного богослужения. Однако хоть Никон и выдвинулся на передний план предстоящих реформ, но в отличие от своих идеалистически настроенных товарищей, которые верили в силу Божия слова, он, как человек практического склада ума, считал, что успех всякого почина есть, прежде всего, результат Божия дела. Прожив долгое время в условиях дикой природы, обладая острым чутьем и тонкой интуицией, Никон безошибочно угадал потаенные намерения царя. Он ловко подыгрывал ему, возбуждая тем самым стойкое к себе недоверие со стороны кружковцев
Расположение Алексея Михайловича к Никону усилилось еще больше вскоре после того, как Иерусалимский Паисий – заморский гость с Востока поделился с Алексеем Михайловичем своими впечатлениями от общения с Новоспасским архимандритом. «В прошлые дни, – взвешивая каждое слово, медленно выговаривал Паисий, – я имел встречи с архимандритом Никоном и полюбились мне беседы его». Беседы с Никоном были любы и самому Алексею, но из боязни оттолкнуть от себя и Вонифатьева, и всю его братию царь до поры до времени воздерживался от лестных оценок в адрес своего нового приятеля.
Но того, что влияние Новоспасского архимандрита Никона при дворе возрастало день ото дня, уже невозможно было не заметить. За протекцией к «собинному другу» царя стали обращаться даже бояре, от которых он охотно принимал челобитные и любезно передавал их Алексею Михайловичу. Но чем крепче становилась дружба между царем и Никоном, тем ревностнее относились к нему его недавние товарищи по кружку. Оттесненные ловким и смекалистым чужаком на второй план, они очень скоро раскусили его коварную натуру, и уже никогда более не сходились с ним близко, и не были к нему всею душой расположены.
Однако царь, не обращая ни малейшего внимания на возникшую между «ревнителями» и Никоном отчужденность, оказывал своему любимцу еще большие милости. Так в 1649 году Церковный собор, уступая настойчивому требованию Алексея Михайловича, избирает архимандрита Никона митрополитом на опустевшую, по случаю смерти ее настоятеля, Новгородскую митрополичью кафедру.
Но и в среде духовенства любезный царскому сердцу митрополит ни должным авторитетом, ни уважением не пользовался. Получив высокий церковный чин не по заслугам, а по протекции царя, Никон, оставаясь чужим среди своих, воспринимался церковниками не иначе как «волком в овечьей шкуре». Он был слишком груб, слишком хитер, слишком корыстолюбив для того, чтобы служить для окружающих примером благонравия, и слишком честолюбив и высокомерен для того, чтобы соответствовать образу благочестивого и смиренномудрого архипастыря.
***
Впрочем, Никон никогда и не стремился казаться тем, кем он не был на самом деле. Усвоив на горьком опыте раннего сиротства одну, но весьма полезную премудрость, что «тот, кто сильнее, тот и прав», он руководствовался ею всю свою долгую жизнь. Лишенный родительской любви и заботы, унижаемый и теснимый, воспитанный не материнской добротой, а мачехиными оплеухами, не обогретый и не обласканный он не умел быть добрым, чутким и великодушным. Все, что ему пригождалось в жизни и выручало не раз, это умением прокладывать себе дорогу силой, хитростью и упорством.
Вот и на этот раз Никону потребовалось совсем немного времени, чтобы разобраться во всех тонкостях противоречивой царской натуры и выхватить из его переживаний то главное, что занимало царя более всего остального. Обладая то ли от природы, то ли от приобретенного в юности навыка распознавать настроение мачехи, он и в зрелом возрасте тонко улавливал скрытые мотивы сторонних людей. Горький жизненный опыт, умение выживать в суровых условиях изоляции и мужского общежития научили Никона и еще одному непростому занятию – умению влиять на окружающих. Ничего необычного не было и в том, что ему удалось так скоро заручиться дружбой царя и обаять Паисия Иерусалимского.
В отличие от многих своих завистников Никон обладал редким даром – он умел не только складно говорить, но и внимательно слушать. Так предоставив Паисию в первые минуты их встречи возможность выговориться до конца, к завершению беседы, Никон уже смог на равных обсуждать с ним такую сложную проблему, как несоответствие Русской обрядовой службы Восточной. Но если Паисий, искренне заблуждаясь, усмотрел в этом несоответствии отход Русской Церкви от истинного православия, то Никон – человек, по большому счету, невежественный, необразованный и не имеющий о существе вопроса личного мнения, поддакивал греку из одного только желания произвести на него хорошее впечатление.
И произвел! Будучи в восторге от своего собеседника Паисий не преминул заметить об этом царю. Но для Никона важно было другое. Ведь после беседы с греком он окончательно утвердился во мнении, что вовсе не благочестие церковных обрядов волнует царя, а гложут его душу льстивые пророчества Паисия о том, что якобы суждено Москве стать третьим Римом, а московскому великому князю – цезарем. А как только он это понял, так тут же о себе самом и подумал. Ведь достаточно было одного взгляда на больного и немощного патриарха Иосифа, чтобы более не сомневаться в том, что ни одно из дел, будь оно затеяно «ревнителями благочестия» или самим царем, ему не по силам. Очевидным было и то, что царь, доверяясь естественному ходу вещей, уже присмотрел на его место достойного приемника. И то, что им будет Стефан Вонифатьев, не сомневался никто. Во-первых, потому что Стефан пользовался непререкаемым авторитетом у «ревнителей благочестия», во-вторых, он был идеологом развернутой в стране богослужебной компании и, в-третьих, он был доверенным лицом царя – самым близким ему человеком.
Но в отличие от своих собратьев по кружку, Никон, обладая особым чутьем, первым почувствовал, что царь только делает вид, что разделяет чаяния своего духовника, а скрытыми намерениями он устремлен много дальше него. Полагаясь на свою интуицию, Никон всем своим видом дал понять царю, что не только знает его секрет, но и готов всеми силами способствовать воплощению в жизнь самых тайных царских задумок.
Алексею нравилось, что его новый друг оказался так умен, понятлив и прозорлив. Полный самых смелых и честолюбивых замыслов, царь и в самом деле мысленно не раз примерял корону византийских цезарей на свою голову. Так постепенно между царем и Никоном сложились особые доверительные отношения, которые отчетливо проявились в тот момент, когда Алексей, отступая от «Уложения 1649 года», наделил Новгородского митрополита Никона чрезвычайными полномочиями.
Что касается «Уложения 1649 года», то оно представляло собой любопытный исторический документ, который, затрагивая многие важные аспекты государственного, административного, гражданского и уголовного права, долгое время, вплоть до начала 19 века, оставался основным действующим сводом законов в стране. Немало страниц этого рескрипта, более известного, как «Уложение Алексея Михайловича», было посвящено правовым взаимоотношениям Церкви и Царства.
Так, исходя из содержания «Главы о посадских людях», следовало, что правительство, ликвидируя само понятие и существование «белых слобод», одним росчерком пера превращало всех обитателей этих слобод из вольных «предпринимателей» в тягловое население.
Почему «предпринимателей»? Потому что «белыми слободами» в Московском государстве назывались те населенные пункты, которые, находясь в собственности церковных учреждений: храмов, лавр, монастырей и многочисленных приходов, были подвластны только церковным властям. Подпадая под юрисдикцию Церкви, жители этих слобод и посадов широко пользовались всеми теми правами и привилегиями, которые распространялись на саму Церковь, то есть не платили никаких податей со своих ремесленных промыслов в казну государства.
Но помимо «белых слобод» на территории государства существовало немало и других слобод, и посадов, городские обыватели которых, обложенные различными налогами, вынуждены были исправно отчислять их из своих доходов как в казначейство по месту регистрации своей деятельности, так и в казну страны.
Естественно, что наличие столь явного перекоса в условиях возникновения и развития церковного и государственного секторов индивидуального предпринимательства, рано или поздно вынудило бы правительство этот перекос ликвидировать. Что Алексеем и было сделано!
«Уложение 1649 года», закрепляя равные кабальные условия для всего сектора «малого бизнеса», перевело все «белые слободы» в собственность государя «безлетно и бесповоротно», а для того, чтобы подобный прецедент никогда более не имел места, «Уложение» запретило монастырским крестьянам приобретать в частную собственность тяглые дворы, лавки, погреба, амбары и соленые варницы.
Лишая Церковь многих излюбленных ею привилегий, «Уложение» не позволяло ей впредь расширять и свои территориальные владения как покупкой земли, так и получением ее в дар или на помин душ. Но, раскулачивая Церковь как крупного земельного собственника, Царство покусилось и на ее внутреннюю свободу, предусмотрев создание нового ведомства – Монастырского приказа. По замыслу авторов «Уложения», каковыми являлись трое бояр – князья Одоевский, Прозоровский и Волконский и два дьяка – Леонтьев и Грибоедов, это чисто светское учреждение, должно было подменить собой институт епископских судов. Иными словами, бояре получали полное право судить не только всех без исключения духовных лиц, но и самого патриарха.
Это был нонсенс!
Впрочем, вопрос о секуляризации церковного и монастырского имущества поднимался в Московском княжестве не впервые. Особенно остро он обсуждался в царствование Ивана III Васильевича, но тогда, опасаясь настойчивых притязаний своих многочисленных родственников на великокняжеский престол, Иван III счел целесообразным не ссориться с Церковью. И оказался прав! Ведь именно Церковь своей теорией божественной избранности светского правителя укрепляла его власть и влияние.
Так сложилось и имело глубокий смысл при Рюриковичах!
Но с приходом к власти Романовых, занявших престол не по праву наследования, а путем победы на выборах, теория – «царь-наместник Бога на земле» утратила былое хождение и значение. Первым Романовым куда важнее было задобрить крупных земельных собственников – дворян и бояр, представляющих подавляющее большинство Земского собора, нежели, продолжая традицию, смотреть сквозь пальцы на усиление Церкви.
Одним словом, выход в свет «Уложения 1649 года», нанесшего своими постановлениями сокрушительный удар по материальной и правовой базам Русской Поместной Церкви, можно считать началом борьбы династического Дома Романовых за установление в стране самодержавия.
Но, как известно, правила часто грешат исключениями, а законы поправками. Не обошлось без оговорок и на этот раз. Выказывая митрополиту Никону свое особое к нему расположение, Алексей Михайлович позволил своему любимцу в пределах принадлежащей ему епархии вершить суд над духовенством и церковными людьми не только по церковным делам, но и по гражданским, то есть так, как это и водилось до «Уложения 1649 года».
Дальше – больше!
Несмотря на то, что Никон являлся лицом духовным, царь наделил его исключительным правом надзирать еще и за гражданским судом в Новгородской земле. И Никон широко пользовался предоставленными ему привилегиями. устанавливая контроль над деятельностью даже воеводского суда. Впрочем, если взглянуть на сложившееся положение вещей шире, то нетрудно заметить, что Новгородская митрополия, с одной стороны, стараниями самого Никона, а с другой, при явном попустительстве царя, получила в государстве статус «особого двора», который во многом напоминал «особый двор» патриарха Филарета – деда Алексея Михайловича.
ПАТРИРАХ ФИЛАРЕТ
***
К чести патриарха Филарета, следует заметить, что, представляя высшую духовную власть в стране, которая твердо зиждилась на позициях древнерусского православия, он предпринимал немало отчаянных шагов для сохранения нравственного здоровья в недрах Русской Православной Церкви. А для того, чтобы в делах церковных иметь больше возможностей для принятия самостоятельных решений, Филарет учредил в патриаршей области, расположенной в самом сердце России, сразу несколько патриарших приказов. Так «особый двор» патриарха имел не только свою законодательную власть, но и судебно-исполнительную, а если вспомнить, что церкви и монастыри располагали немалой земельной собственностью, то впору заподозрить Филарета в симпатиях к папству, которыми он, легко мог заразиться в Польше, где провел в плену девять долгих лет.
Но прежде, чем ему удалось осуществить задуманное, он царской грамотой от 20 мая 1625 года, объявив Московскую патриархию, превосходящую по размерам территорию любого из целого списка европейских государств, в подконтрольную патриарху область, превратил ее в некое «государство в государстве». Более чем сорок городов и уездов вместе со всеми церквями, монастырями и прилежащими к ним территориями вошли в состав Филаретова «особого двора». И снова, сколько не уклоняйся от параллелей, а невольная схожесть с папской резиденцией, расположенной на территории Рима, напрашивается сама собой.
Обращает на себя внимание и то, что тремя годами раньше, в 1622 году, Филарет провел через Собор «Постановление», закрепив за монастырями все те вотчины, что были ими приобретены – куплены или получены в дар после опубликования Соборного уложения 1580 года, прямо запрещавшего землевладельцам завещать, продавать или закладывать свои вотчины монастырям.
Правда, через год Филарет издал новый «Указ», но на этот раз, подчеркивая правомерность всех пожалованных духовенству и монастырям грамот, включая даже те, что уже были утверждены прежде, он строго настрого запретил церковным учреждениям приобретать новые вотчины. Отдельными статьями этого «Указа» оговаривалось, что в случае нарушения последнего распоряжения все вновь приобретенные земли будут бесповоротно конфискованы в государеву собственность. Единственное послабление, которое было сохранено за духовенством – это право принимать подношения на помин усопших душ, а бедным монастырям сверх этого позволялось расширять свои земельные владения только в том случае, если они будут пожалованы им государем по приговору Собора.
Впрочем, некая непоследовательность и нелогичность в поступках Филарета, легко оправдывалась тем, что, во-первых, он возглавлял не только Церковь, но и Царство, а во-вторых, для своего высокого церковного чина он не имел ни приличного богословского образования, ни опыта церковно-приходской деятельности. Придя в аскетический мир духовного служения не по велению сердца, а по принуждению – путем насильственного пострижения, он вершил свои патриаршие дела скорее по наитию и разумению, нежели по канонам Священного писания, которое по утверждению современников знал весьма поверхностно.
Более светский правитель, чем духовный деятель Филарет и действовал в рамках, усвоенных им еще с юности представлений о величии, суровости и высокой требовательности прирожденного царя по отношению к своим подданным. Ярким и единственным примером такого самодержца служил для Филарета образ незабвенного Ивана IV Васильевича Грозного, при дворе которого он, собственно говоря, вырос и прошел первые жизненные университеты. Явная неспособность Филарета Никитича избавиться от навязчивых и довлеющих над его сознанием стереотипов жесткого и деспотичного правителя Ивана Грозного, в конце концов, превратила родоначальника новой династии Романовых в невольного реаниматора крайне непопулярных методов правления предпоследнего Рюриковича.
Но удержать Русь в узде уже изживших себя патриархальных представлений об устройстве семьи, мира и человеческих взаимоотношений было не так-то просто! Близкое и непосредственное знакомство с Западом, который явил заскорузлому в невежестве боярско-дворянскому сословию Москвы пример иного образа и уровня жизни, заставило его наиболее гибкую и прогрессивно мыслящую прослойку критически переосмыслить свое бытие и наметить новые приоритеты как в своей собственной судьбе, так и в судьбе своего отечества. Однако, прельщаясь сверх всякой меры теми правами и свободами, которое западное общество охотно предоставляло каждой отдельной личности, они упускали из вида главное, а именно, те страшные и необратимые последствия, к которым подобная вседозволенность приводила на практике – к катастрофическому оскудению нравственной глубины и чистоты души.
Но процесс был запущен, и его уже невозможно было остановить! Причем, стремительность этого процесса возрастала тем больше, чем разнообразнее становились экономические, политические и дипломатические контакты России с Западным зарубежьем. И если светское сообщество Москвы, вступая без всякой опаски на зыбкую почву духовного раскрепощения, тянуло за собой в это болото и все Царство, то Церковь, перенявшая и сам религиозный дух, и культуру православного вероисповедания с Востока, твердо стояла на позициях святости и нерушимости русского нравственного домостроения. Прилагая в этих новых для себя условиях существования огромные усилия для того, чтобы оградить страну от чужеродного и тлетворного влияния Запада, Церковь неизбежно должна была прийти и пришла к неотвратимому разрыву «симфонических» отношений с Царством!
Впрочем, если говорить о церковной жизни Московской Руси в целом, то она была поставлена на вполне разумное и прочное основание. Вся вертикаль русского духовенства – от низшего сословия до высшей церковной иерархии, была проникнута пониманием единства и соборности. Но понимание это никак не мешало тому, что приходское – белое духовенство избиралось мирянами из своей простонародной среды, а монашество – черное духовенство было доступно всем без исключения сословиям, в том числе и людям из княжеских и боярских родов. А это значило, что все новички, какое бы положение в обществе они в своей прежней жизни ни занимали, начинали движение вверх по карьерной лестнице с одной стартовой площадки вместе с принятием пострига и нового имени.
***
Собственно говоря, и вхождение боярина Федора Никитича Романова на духовную стезю хоть и начиналось вопреки его внутреннему убеждению, но на равных правах со всеми остальными чернорясниками и под новым именем Филарет.
Труден и извилист был путь антониево-сийского затворника к патриаршему престолу. Уличенный в 1601 году царем Борисом Годуновым в заговоре, насильно постриженный по приговору суда в монахи и заточенный в острог Антониево Сийской обители, Филарет был освобожден из неволи первым Лжедмитрием в 1604 году и, пожалованный саном митрополита, возглавил Ростовскую епархию.
Через два года, свергнув польского ставленника и самозванца с русского престола, новый выбранный из бояр царь Василий Шуйский, намереваясь заручиться поддержкой сильного и влиятельного при дворе клана Романовых, призвал Филарета в Москву и пообещал ему в обмен на сотрудничество патриаршую кафедру. Но Филарет, считая своего малолетнего сына Михаила единственным законным и достойным наследником царской власти, организовал в Москве мятеж, направленный против засилья Шуйских. Организованный на скорую руку, плохо спланированный и слабо вооруженный бунт Романовской оппозиции сторонникам Шуйского удалось подавить, и Филарету было приказано срочно покинуть Москву и впредь из Ростова никуда не отлучаться.
Но уже в следующем 1608 году митрополит Ростовский Филарет был взят в плен казаками второго Дмитрия самозванца и доставлен в его подмосковную столицу Тушино. Не признавая во втором Дмитрии чудесно спасшегося от расправы Дмитрия первого, московские власти вполне справедливо называли нового самозванца, настоящее имя которого было Матвей Веревкин, не иначе как Тушинским Вором. Здесь, в тушинском лагере, Филарет оказался в обществе многих и давних противников Шуйского, основное ядро которых составляли близкие родственники Романовых – Черкасские, Шереметевы, Салтыковы и иже с ними.
Историками и по сей день так до конца и не выяснено, чей же конкретно политический заказ выполнял Тушинский самозванец – польской шляхты или оппозиционного Василию Шуйскому боярства. Но, исходя из того, какую важную роль играли в Боярской думе в селе Тушино отдельные представители клана Романовых, то логично было бы допустить, что имелся во всей этой истории у Романовых свой и очень большой интерес. Ведь именно здесь, в Тушино, митрополит Филарет был посвящен в сан патриарха. Хотя, с другой стороны, сам Филарет никогда этому посвящению серьезного значения не придавал.
Как бы там ни было, а заговор Романовых, если он все-таки имел место быть, обернулся для страны большой кровью. Не желая даже в самых критических для себя обстоятельствах отказываться от Царства, Шуйский обратился с просьбой о военной помощи к шведскому королю Карлу IХ – заклятому врагу польского короля Сигизмунда III. Последовавший вслед за этим союзнический договор, заключенный в 1608 году между Швецией и Москвой, и появление на территории Московского княжества шведских полков под командованием генерала Делагарди, заставило Сигизмунда подтянуть свои войска к русским границам.
Однако Шуйский, мало обращая внимания на действия польского короля Сигизмунда III Ваза, разбившего свой лагерь под осажденным Смоленском, жаждал только одного – уничтожить Самозванца, а вместе с ним и своих заклятых врагов – бояр Романовых. Но ни того и ни другого в жизни Шуйского так и не случилось. Все что объеденным русско-шведским полкам удалось сделать – это оттеснить тушинских казаков от столицы и заставить их спасаться от превосходящих сил противника позорным бегством. Тушинский лагерь опустел, а потом и вовсе был сожжен, но не шведами, а брошенными Матвеем Веревкиным на произвол судьбы шляхтичами – казаками атамана Рожинского. И если Тушинскому Вору повезло и ему удалось, обхитрив и своих, и чужих, уйти от преследования, то сам Филарет и большая часть его сторонников оказались в плену у польских наемников.
В Москву Филарету удалось вернуться только в 1610 году, когда она уже была оккупирована польскими королевскими войсками под командованием гетмана Жолкевского, и взамен насильно постриженного в монахи Василия Шуйского было избрано временное правительство, названное по числу временщиков – «семибоярщиной». Но приближался 1611 год, и Москве, исходя из достигнутых между русской и польской стороной договоренностей, предстояло выбрать, а вернее признать новым русским царем сына Сигизмунда III – королевича Владислава.