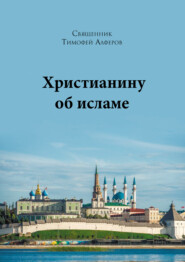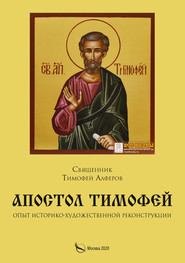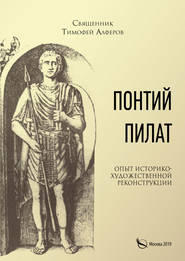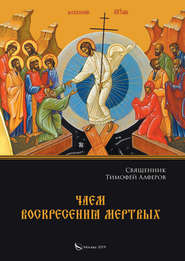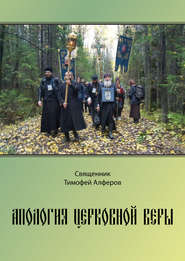По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Пока не крикнула кукушка петухом. Рассказы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Пока не крикнула кукушка петухом. Рассказы
Тимофей Алферов
Психотерапевтическое пособие. Посвящается и вручается с поклоном и благодарностью всем добровольцам. волонтерам, донорам, подвижникам милосердия. работникам благотворительных фондов, психологам МЧС и другим психологам, наконец и пастырям душ человеческих.
Тимофей Алферов
Пока не крикнула кукушка петухом
© Алферов Т. А., 2024
* * *
Пока не крикнула кукушка петухом
(о профилактике психиатрических проблем на дальних подступах)
Наш разговор пойдет о профилактике психически опасных состояний на более-менее отдаленной дистанции и без применения медикаментов. В целом я полностью за сотрудничество с врачами, в том числе с психиатрами, в тех случаях, когда дело доходит до необходимости прибегнуть к их помощи. Но и сами психиатры постоянно отмечают, что норма и патология в психиатрии не имеют между собой ясной и четкой границы. На практике существует масса переходных состояний, когда человек еще сохраняет какую-то критичность к себе, может расслышать и всерьез принять слова окружающих. Это, прежде всего, состояния депрессивные, а также некоторые другие, о которых скажем в своем месте. На этом уровне и бывает полезно поделиться проверенным советом.
В церкви с такими состояниями приходится часто сталкиваться. Неверующие часто ставят в упрек, что, мол, в любой религии концентрация психически больных людей повышена. Это, действительно, так, нет смысла спорить. Но упрек этот очень похож на другой, что, мол, и в тюрьмах верующие различных исповеданий тоже составляют подавляющее большинство. Разумеется, и это верно. Но здесь обратная зависимость: когда человеку плохо, тогда он и вспоминает о Боге и религии. Если посмотреть, сколько людей приходило в тюрьму и к психиатру, уже будучи практически верующими, то таких окажется немного. Гораздо больше тех, кто начал свои религиозные поиски на тюремных нарах или столкнувшись с психиатрическими проблемами. Не религия посадила за решетку или свела с ума, а человек, уже попавший в такую беду, стал искать религиозной помощи. Общий порядок именно таков. А вот дальше нужно справляться с проблемой.
Небольшие проблемы со здоровьем на начальных стадиях хронических болезней чаще всего требуют врачебной помощи, а затем внимания со стороны самого пациента. Допустим, за своими суставами или за глазами, или за сердцем нужно постоянно следить, если эти члены тела о себе уже напомнили чем-то нехорошим. А почему психическое здоровье в этом отношении должно представлять какое-то исключение? Нет, и психикой своей тоже нужно заниматься, обращать на нее внимание, не воображать себя гарантированным от такого рода несчастья. От него не гарантирован вообще никто, как от рака, диабета или инфаркта. И тут тоже есть свои законы, давно открытые людям и отраженные в религиозных источниках. В дальнейшем практика психологов и психиатров вложила тут достаточную ясность.
Повторим: весь наш разговор будет не о тех стадиях, где должны работать психиатры, которых мы ни в коем случае не пытаемся подменить, или тем более, признать их деятельность ненужной. Когда уже дело дойдет до специалистов, нашу книжку читать будет поздно. Разве что, может быть, в состоянии высокой ремиссии. Мы поговорим о гораздо более ранних стадиях, но именно о таких состояниях, когда разговор со специалистами и курс лечения с высокой вероятностью ожидается в будущем, – если только вовремя не обратить внимания, не озадачиться заранее проблемой и все пустить на самотек.
И начнем мы с теоретического введения.
Два начала человеческой нравственности
Известно, что в различных религиях учения о добре и зле, о правильном и греховном поведении, достаточно близки между собою. Главное отличие в этом отношении бывает лишь в том, к кому конкретно следует, а к кому не следует применять эти относительно общие положения: не убивать, не воровать, не клеветать, не завидовать… Иными словами: кто свой, подлежащий уважению, а кто чужак, на которого это все доброе не распространяется.
А в целом нравственный кодекс для человечества универсален. Как генетический код. И это, скорее всего, потому что един Творец и един Его замысел относительно нас.
И если на эту сферу взглянуть обобщенно, не разрывая нравственность на отдельные заповеди, то мы можем выделить два закона, два начала, в чем-то аналогичные началам термодинамики. Сходство усиливается тем, что когда мы пропишем первое начало, то любой читатель легко его узнает и сразу увидит, чем оно похоже на закон сохранения энергии. А вот второе начало, как в термодинамике, так и в нравственной динамике понимается гораздо сложнее, но именно оно, так сказать, чертит векторы, именно оно оказывается определяющим направления развития.
Итак, начало первое. Это закон кармы. Что посеет человек, то и пожнет. Здесь индус легко согласится с апостолом Христовым, иудей с эллином и т. д. Око за око, зуб за зуб. Делаешь кому-то зло – себе его делаешь. Делаешь другому добро – себе его делаешь. Все возвращается. Пусть не в полную меру, с задержкой, с ущербом, но круговорот этот, безусловно, существует, и люди о нем знают независимо от своей базовой религии. Что же получается: это закон сохранения добра и зла? – Ну, может быть, даже и так, с той лишь разницей, что ни добру, ни злу мы не знаем количественного выражения. Аналогия с сохранением энергии проста и понятна.
Но в термодинамике этот закон, взятый в отдельности, не объяснил бы ничего. И если знать только его, только карму и ее сохранение, то в такой религии и мир окажется статичен и бессмыслен, превратится в бесконечное переливание из полупустого в полу-порожнее. Так и обстоит дело в кармических религиях, где жизнь представляет бессмысленное верчение каких-то циклов. Но не так в библейской традиции, где время мира не является кучей спиралей, а является отрезком от начала к концу. Отрезок этот направлен, он вектор.
В термодинамике подобный вектор определяется вторым началом. Энергия не равноправна в своих направлениях передачи. Есть избранные направления. Всякая энергия стремится перейти в тепловую, а вся тепловая энергия стремится распределиться равномерно между всеми объектами, между коими возможен теплообмен. В свое время Ф. Энгельс с жаром отрицал сам этот закон природы, совершенно верно отмечая, что в случае его принятия энергия окажется уничтожимой качественно, если уж не количественно. А этого он принять не мог. Ибо пришлось бы признать наличие Творца. Однако природа энергии именно такова: энергия в качественном смысле, действительно, уничтожается. И этот именно процесс и определяет, куда идут все остальные, связанные с ним.
Так и в нравственной сфере существует все-таки совершенно четкое, заметное размыкание кармического закона, кармической круговой динамики.
Если замкнутая, изолированная система, в которую не поступает энергия и вещество, обречена на тепловую смерть с выравниванием температуры и исчезновением любого вида энергии, кроме тепловой, то и в кармической вселенной было бы то же самое в отношении добра и зла. И если мир со вторым началом термодинамики до сих пор существует, то возможно одно из двух. Или вселенная получила начало недавно, и просто еще не успела прийти в равновесие, или же система эта не замкнута, а ее размыкает Тот, кто ее создал. Или то и другое вместе.
Подобное есть и в нравственной сфере.
Круг кармической справедливой бессмысленности можно разомкнуть. Если человек вопреки своей карме, не чая ничего взамен, начинает творить добро сверх закона справедливости, то и в его жизни, и вокруг него нравственное равновесие разрывается, система размыкается, в дело вмешивается сам Творец. Когда человек сознательно прощает то, чего не принято прощать, когда дает, не чая получить обратно, когда, изнемогая от своей боли, принимает еще и чужую боль, как свою, – тогда и он сам, и мир вокруг него изменяется в лучшую сторону.
Создается стойкое впечатление, что Бог послал своего Сына именно для того, чтобы самым широким образом в максимальной доступности, словом, делом и примером, открыть в Нем и через Него этот самый закон. Ведь Христос научил именно этому и всей своей жизнью показал, как это делается. И тем самым открыл в мире некие новые источники благодати. И это христиане именуют искуплением: сверх закона кармы, не будучи принуждаем или обязанным извне, по доброй воле приносит свою жизнь в жертву за ближних, и этим разрывает само царство мертвых через свое воскресение. А заодно Он повелел и своим последователям непременно и постоянно этим пользоваться. Постоянно нарушать кармическую справедливость за свой счет. Прощать врагам и благотворить им, терпеть добровольно любое лишение, подавать милостыню до последних двух лепт, наконец, добровольно брать крест унижений и мучений – за друзей своих. То есть, делать ровно то же самое, что сделал Он сам для всех нас. Неся свой крест на Голгофу, Он успевает пожалеть женщин, которые плачут о Его судьбе. Он же скорбит о них и об их детях. По сути, все то новое, что принес в своем учении Христос, сводится к этой максиме: возьми чужую боль, чтобы впустить в ситуацию Бога и тем самым преодолеть боль свою.
Вселенная из атомов, похоже, сделана не замкнутой. Вселенная нравственных существ, похоже, планировалась на то, чтобы тоже не остаться замкнутой. В замкнутой системе – тепловая смерть. Не станем этого забывать.
А если замкнутую систему человека (начиная с психического мира одной человеческой личности) разомкнуть Христовым, евангельским ключом, то в нее войдет Бог и продолжится жизнь. Но если оставить все как есть, все отдать карме и энтропии… Тогда понятно, что будет. Можно делать и так. Но не нужно!
Прекрасный пример применения этого закона на практике показала святая мученица Елизавета, родная сестра последней русской императрицы. С ней случилась величайшая трагедия, какую только может перенести женщина – убийство горячо любимого мужа. До сих пор не представляю, как можно не повредиться умом, если тебе придется собирать еще теплые останки любимого человека, разорванного на куски бомбой террориста.
И все же великая княгиня перенесла это испытание! И именно двумя путями. Во-первых, сумела простить убийцу. Во-вторых, всю оставшуюся жизнь посвятила страждущим, устроив обитель милосердия. И поэтому избежала практически неизбежного: не сошла с ума. Но прожила великую и достойную жизнь, увенчанную впоследствии мученической кончиной. Справедливости ради отметим, что подобных женщин, в том числе благородных сословий, в ее времена в России было много. Они посвящали себя благотворительности, становились сестрами милосердия, жертвовали порой не только трудами своими, но и самой жизнью. Но именно ее пример мы приводим, как наиболее убедительный для нашей темы. Профилактика неизбежного психического срыва через жертвенное служение ближним.
Вот оно «второе начало нравственности» в действии. Если не хочется этот закон называть евангельским или Христовым, назовем его законом св. Елизаветы. Дальше нам придется ссылаться на него постоянно и именно потому, что он имеет самое прямое и непосредственное отношение к психическому состоянию. Подчинение этому закону, сознательное решение начать жить в соответствии с ним является прямой профилактикой психических расстройств. По мнению автора, вообще любых расстройств. Но может быть, не всех, а только большинства из них.
Вопреки распространенному предрассудку подчеркнем все-таки, что жизнь по «закону св. Елизаветы» не есть какой-то сверхчеловеческий подвиг, дающий сверхдолжную награду, а что это есть не более и не менее чем закон нашего душевного устроения. Он не превосходит нашу природу, а учитывает и отражает эту нашу природу и исцеляет ее в нас. Мы созданы с учетом этого закона, он так же неизбежен, как и первое начало кармы, – только менее понятен нам, чем кармический закон. Христос, открыв этот закон нам в своей жизни и служении, не превосходит этим природу человека, а исцеляет ее, вводит любого своего ученика и последователя в мир своего замысла о нас. Творец, изначально создавая человека, так и строил нашу душу. И даже если греховное наше повреждение не дало возможности открыть этот закон людям сразу, а только через посланного Спасителя мира, это не меняет дела. Христос тем и спасает нас, что возвращает к изначальному замыслу, вставляет сломанную и выпавшую из творческого замысла душу человека в ее изначальные природные рамки.
Во времена Ветхого Завета Иов, например, еще не знал этого закона. Потому он и находится на грани срыва, когда пришла беда. Ведь на его глазах простой и понятный закон справедливости, закон кармы явно нарушен. Господи, как же это не кармически! – вот суть всех размышлений в его трагедии.
Новый Завет Иисуса Христа дал здесь явно нечто новое и действенное. Открыл иные закономерности в душевной жизни, предложив соответствующие им пути.
Путь к здоровью, например, глаза, состоит в том, чтобы правильно натренировать и настроить глазные мышцы. А путь к здоровью позвоночника в том, чтобы правильно настроить его мышечный корсет. И путь к здоровью души в том, чтобы ввести ее в законы правильной душевной деятельности, в те законы, которые открыты нам самим нашим Творцом через послание Его Сына, нашего Спасителя. Если у вас проблемы с позвоночником, и вы не занимаетесь ими целенаправленно под руководством врача с учетом всей физиологической науки, то так и будете болеть весь остаток жизни, причем довольно существенно сократите этот остаток. И против этого вроде никто не спорит. Так и наша душа, если не войдет в режим своей «лечебной физкультуры», то не будет исцеленной. Болезнь, пущенная на самотек, прогрессирует. Позвоночник деградирует, душа деградирует. То и другое неизбежно в соответствии с законами своей природы.
И дальше мы конкретно увидим, почему так.
Какие будут возражения?
Наша претензия на открытие нового закона душевного устроения человека может, конечно, насторожить и отпугнуть читателя. Мы предчувствуем град вопросов в стиле: а ставил ли сам Христос вопрос о каком-то законе человеческой природы? А понимал ли апостол Павел свои самоотверженные действия как некое откровение о душевной природе человека? А знала ли св. Елизавета, что ее жизненной выбор обладает статусом закона природы? Может быть, учение о милостыне и сострадании – это не более чем один из полезных советов, который только помогает определенным людям при определенных условиях, и ничуть не более того?
Что ответим на это? Если начать с Евангелия, то учение свое Иисус Христос называет заповедями, полученными от Отца Небесного. Для человека того времени слово Бога Отца в повелительном наклонении носит статус именно закона и не чего-то меньшего. Если Отец устами своего Сына повелевает милостыню, самоограничение в потреблении, полное прощение обидчикам и благотворение врагам, и при этом даже не оговаривает каких-либо особых условий, то это не оставляет нам выбора. Речь должна идти только о законе. Он ставится общим для всех людей, по крайней мере, для всех верующих и ищущих Божьего Царства. Как минимум – это есть условие жизни в Его Царстве. Иными словами, это именно восстановление изначального замысла Творца относительно созданного им человека.
Как ни взглянуть, речь идет о положениях самого высокого статуса.
Если говорить об учении и примерах жизни апостола Павла, если рассмотреть учение о милостыне у св. Иоанна Златоуста и у других св. отцов, то они тоже употребляют здесь слова заповедь Господня, а это и есть подтверждение высокого и обобщающего статуса указанных выше евангельских положений.
Мы ничего не выдумываем здесь, а просто ставим такое положение на вид, на достойное первое место, ведя разговор на поле психологов и психиатров. Наша дерзость в этом отношении выражается лишь в попытке проговорить ясные евангельские истины, обыкновенно не проговариваемые у психологов, и показать прямую связь этих заповедей с психиатрической тематикой, ту связь, которая хорошо доказывается опытом. (Какой-то опыт на эту тему, разумеется, есть и у автора, иначе самый замысел такой книжки никогда бы не появился).
Современным примером может служить книжка Ларисы Пыжьяновой «Разделяя боль». Автор – психолог МЧС, выдержавшая десять лет этого изнурительного служения людям, внезапно потерявшим близких людей в войнах или катастрофах. Я преклоняюсь перед этими людьми, я сам видел работу психологов МЧС с осетинскими беженцами в 2008 г, понимаю, насколько надрывно тяжело их служение, насколько они сами в своей работе практически воплощают «закон св. Елизаветы». И книга сама замечательно написана с христианских позиций, с цитатами священников и епископов. В ней много раз автор подходит совсем близко к этой теме. Лариса видела и описала, как человека исцеляет любовь и сострадание, и как, с другой стороны, калечит эгоизм и повышенное внимание к себе. Ей совсем чуть-чуть не хватило, чтобы добраться до конца и договорить главное, чтобы выставить пример вроде св. Елизаветы и увидеть в нем универсальный жизненный принцип для всей своей работы. И, повторим, перед нами христианка, пусть даже весьма обоснованно опасающаяся перейти на тон пастора или проповедника – и для нее это абсолютно правильно. Что же до других, не верующих психологов, то у них, кроме накачки самооценки, я других рецептов не встречал.
И почему бы, после всего этого, найденный евангельский рецепт не озвучить и не начать применять прямо и без псевдонимов? Доколе разрешать ему действовать только анонимно или черным ходом? Ведь мы же никоим образом не присваиваем ему статуса единственного психотерапевтического приема. Но некая универсальность у заповеди Господней при этом все-таки сохраняется, и это нужно принять: берешь чужую ношу – лечишь свою душу. Друг друга тяготы носите и тако исполните закон Христов (Гал. 6, 2).
Закон, – повторяю. Именно закон Христа. Не я сказал это первым.
Психопатия – штука греховная
В курсе пастырской психиатрии (см., например, В. Каледа «Основы пастырской психиатрии», М. 2021) почему-то различают психопатические состояния, как болезнь, от тех состояний якобы здорового человека, которые описываются категориями греха, нравственного воздействия и покаяния. Психопат почему-то априори объявляется больным, а потому нравственно не ответственным, не состоящим, так сказать, в нравственном поле. В. Каледа цитирует архим. Киприана (Керна): «существуют такие душевные состояния, которые не могут быть определяемы категориями нравственного богословия и которые не входят в понятия добра и зла, добродетели и греха. Это все – те глубины души, которые принадлежат к области психопатологической, а не аскетической» (с. 22).
Однако когда там же начинается описание конкретных симптомов различных видов психических расстройств, то приводимое описание всякий раз показывает именно человеческую греховность, точнее, глубочайший и всеподавляющий эгоизм, который стал таковым путем именно нравственной деградации души, доведя ее до невменяемого состояния. Психопатических расстройств в книге описывается аж целых одиннадцать типов, и, на наш взгляд, объединяющая все из них черта именно эта – эгоизм.
Вот, например, о шизоидном типе и шизофрениках сказано так:
«В их действиях зачастую можно обнаружить недостаток такта и неспособность проникнуть в душевный мир других людей, понять чужие желания, опасения, переживания. Вместе с тем порой шизоиды могут испытывать глубокую, часто труднообъяснимую привязанность к кому-либо, иногда к «случайным» людям. Принципиальность сочетается у них с безразличием к судьбам конкретных людей. При этом их внешнее высокомерие, холодность, иногда бессердечие и даже жестокость могут сочетаться с глубоко скрываемой неудовлетворенностью и неуверенностью в себе» (с. 69).
Ну и как вам? «Высокомерие, бессердечие и жестокость» – это разве не «категории нравственного богословия»? Разве эти «глубины души» оказываются вне понятий добра и зла?
Тимофей Алферов
Психотерапевтическое пособие. Посвящается и вручается с поклоном и благодарностью всем добровольцам. волонтерам, донорам, подвижникам милосердия. работникам благотворительных фондов, психологам МЧС и другим психологам, наконец и пастырям душ человеческих.
Тимофей Алферов
Пока не крикнула кукушка петухом
© Алферов Т. А., 2024
* * *
Пока не крикнула кукушка петухом
(о профилактике психиатрических проблем на дальних подступах)
Наш разговор пойдет о профилактике психически опасных состояний на более-менее отдаленной дистанции и без применения медикаментов. В целом я полностью за сотрудничество с врачами, в том числе с психиатрами, в тех случаях, когда дело доходит до необходимости прибегнуть к их помощи. Но и сами психиатры постоянно отмечают, что норма и патология в психиатрии не имеют между собой ясной и четкой границы. На практике существует масса переходных состояний, когда человек еще сохраняет какую-то критичность к себе, может расслышать и всерьез принять слова окружающих. Это, прежде всего, состояния депрессивные, а также некоторые другие, о которых скажем в своем месте. На этом уровне и бывает полезно поделиться проверенным советом.
В церкви с такими состояниями приходится часто сталкиваться. Неверующие часто ставят в упрек, что, мол, в любой религии концентрация психически больных людей повышена. Это, действительно, так, нет смысла спорить. Но упрек этот очень похож на другой, что, мол, и в тюрьмах верующие различных исповеданий тоже составляют подавляющее большинство. Разумеется, и это верно. Но здесь обратная зависимость: когда человеку плохо, тогда он и вспоминает о Боге и религии. Если посмотреть, сколько людей приходило в тюрьму и к психиатру, уже будучи практически верующими, то таких окажется немного. Гораздо больше тех, кто начал свои религиозные поиски на тюремных нарах или столкнувшись с психиатрическими проблемами. Не религия посадила за решетку или свела с ума, а человек, уже попавший в такую беду, стал искать религиозной помощи. Общий порядок именно таков. А вот дальше нужно справляться с проблемой.
Небольшие проблемы со здоровьем на начальных стадиях хронических болезней чаще всего требуют врачебной помощи, а затем внимания со стороны самого пациента. Допустим, за своими суставами или за глазами, или за сердцем нужно постоянно следить, если эти члены тела о себе уже напомнили чем-то нехорошим. А почему психическое здоровье в этом отношении должно представлять какое-то исключение? Нет, и психикой своей тоже нужно заниматься, обращать на нее внимание, не воображать себя гарантированным от такого рода несчастья. От него не гарантирован вообще никто, как от рака, диабета или инфаркта. И тут тоже есть свои законы, давно открытые людям и отраженные в религиозных источниках. В дальнейшем практика психологов и психиатров вложила тут достаточную ясность.
Повторим: весь наш разговор будет не о тех стадиях, где должны работать психиатры, которых мы ни в коем случае не пытаемся подменить, или тем более, признать их деятельность ненужной. Когда уже дело дойдет до специалистов, нашу книжку читать будет поздно. Разве что, может быть, в состоянии высокой ремиссии. Мы поговорим о гораздо более ранних стадиях, но именно о таких состояниях, когда разговор со специалистами и курс лечения с высокой вероятностью ожидается в будущем, – если только вовремя не обратить внимания, не озадачиться заранее проблемой и все пустить на самотек.
И начнем мы с теоретического введения.
Два начала человеческой нравственности
Известно, что в различных религиях учения о добре и зле, о правильном и греховном поведении, достаточно близки между собою. Главное отличие в этом отношении бывает лишь в том, к кому конкретно следует, а к кому не следует применять эти относительно общие положения: не убивать, не воровать, не клеветать, не завидовать… Иными словами: кто свой, подлежащий уважению, а кто чужак, на которого это все доброе не распространяется.
А в целом нравственный кодекс для человечества универсален. Как генетический код. И это, скорее всего, потому что един Творец и един Его замысел относительно нас.
И если на эту сферу взглянуть обобщенно, не разрывая нравственность на отдельные заповеди, то мы можем выделить два закона, два начала, в чем-то аналогичные началам термодинамики. Сходство усиливается тем, что когда мы пропишем первое начало, то любой читатель легко его узнает и сразу увидит, чем оно похоже на закон сохранения энергии. А вот второе начало, как в термодинамике, так и в нравственной динамике понимается гораздо сложнее, но именно оно, так сказать, чертит векторы, именно оно оказывается определяющим направления развития.
Итак, начало первое. Это закон кармы. Что посеет человек, то и пожнет. Здесь индус легко согласится с апостолом Христовым, иудей с эллином и т. д. Око за око, зуб за зуб. Делаешь кому-то зло – себе его делаешь. Делаешь другому добро – себе его делаешь. Все возвращается. Пусть не в полную меру, с задержкой, с ущербом, но круговорот этот, безусловно, существует, и люди о нем знают независимо от своей базовой религии. Что же получается: это закон сохранения добра и зла? – Ну, может быть, даже и так, с той лишь разницей, что ни добру, ни злу мы не знаем количественного выражения. Аналогия с сохранением энергии проста и понятна.
Но в термодинамике этот закон, взятый в отдельности, не объяснил бы ничего. И если знать только его, только карму и ее сохранение, то в такой религии и мир окажется статичен и бессмыслен, превратится в бесконечное переливание из полупустого в полу-порожнее. Так и обстоит дело в кармических религиях, где жизнь представляет бессмысленное верчение каких-то циклов. Но не так в библейской традиции, где время мира не является кучей спиралей, а является отрезком от начала к концу. Отрезок этот направлен, он вектор.
В термодинамике подобный вектор определяется вторым началом. Энергия не равноправна в своих направлениях передачи. Есть избранные направления. Всякая энергия стремится перейти в тепловую, а вся тепловая энергия стремится распределиться равномерно между всеми объектами, между коими возможен теплообмен. В свое время Ф. Энгельс с жаром отрицал сам этот закон природы, совершенно верно отмечая, что в случае его принятия энергия окажется уничтожимой качественно, если уж не количественно. А этого он принять не мог. Ибо пришлось бы признать наличие Творца. Однако природа энергии именно такова: энергия в качественном смысле, действительно, уничтожается. И этот именно процесс и определяет, куда идут все остальные, связанные с ним.
Так и в нравственной сфере существует все-таки совершенно четкое, заметное размыкание кармического закона, кармической круговой динамики.
Если замкнутая, изолированная система, в которую не поступает энергия и вещество, обречена на тепловую смерть с выравниванием температуры и исчезновением любого вида энергии, кроме тепловой, то и в кармической вселенной было бы то же самое в отношении добра и зла. И если мир со вторым началом термодинамики до сих пор существует, то возможно одно из двух. Или вселенная получила начало недавно, и просто еще не успела прийти в равновесие, или же система эта не замкнута, а ее размыкает Тот, кто ее создал. Или то и другое вместе.
Подобное есть и в нравственной сфере.
Круг кармической справедливой бессмысленности можно разомкнуть. Если человек вопреки своей карме, не чая ничего взамен, начинает творить добро сверх закона справедливости, то и в его жизни, и вокруг него нравственное равновесие разрывается, система размыкается, в дело вмешивается сам Творец. Когда человек сознательно прощает то, чего не принято прощать, когда дает, не чая получить обратно, когда, изнемогая от своей боли, принимает еще и чужую боль, как свою, – тогда и он сам, и мир вокруг него изменяется в лучшую сторону.
Создается стойкое впечатление, что Бог послал своего Сына именно для того, чтобы самым широким образом в максимальной доступности, словом, делом и примером, открыть в Нем и через Него этот самый закон. Ведь Христос научил именно этому и всей своей жизнью показал, как это делается. И тем самым открыл в мире некие новые источники благодати. И это христиане именуют искуплением: сверх закона кармы, не будучи принуждаем или обязанным извне, по доброй воле приносит свою жизнь в жертву за ближних, и этим разрывает само царство мертвых через свое воскресение. А заодно Он повелел и своим последователям непременно и постоянно этим пользоваться. Постоянно нарушать кармическую справедливость за свой счет. Прощать врагам и благотворить им, терпеть добровольно любое лишение, подавать милостыню до последних двух лепт, наконец, добровольно брать крест унижений и мучений – за друзей своих. То есть, делать ровно то же самое, что сделал Он сам для всех нас. Неся свой крест на Голгофу, Он успевает пожалеть женщин, которые плачут о Его судьбе. Он же скорбит о них и об их детях. По сути, все то новое, что принес в своем учении Христос, сводится к этой максиме: возьми чужую боль, чтобы впустить в ситуацию Бога и тем самым преодолеть боль свою.
Вселенная из атомов, похоже, сделана не замкнутой. Вселенная нравственных существ, похоже, планировалась на то, чтобы тоже не остаться замкнутой. В замкнутой системе – тепловая смерть. Не станем этого забывать.
А если замкнутую систему человека (начиная с психического мира одной человеческой личности) разомкнуть Христовым, евангельским ключом, то в нее войдет Бог и продолжится жизнь. Но если оставить все как есть, все отдать карме и энтропии… Тогда понятно, что будет. Можно делать и так. Но не нужно!
Прекрасный пример применения этого закона на практике показала святая мученица Елизавета, родная сестра последней русской императрицы. С ней случилась величайшая трагедия, какую только может перенести женщина – убийство горячо любимого мужа. До сих пор не представляю, как можно не повредиться умом, если тебе придется собирать еще теплые останки любимого человека, разорванного на куски бомбой террориста.
И все же великая княгиня перенесла это испытание! И именно двумя путями. Во-первых, сумела простить убийцу. Во-вторых, всю оставшуюся жизнь посвятила страждущим, устроив обитель милосердия. И поэтому избежала практически неизбежного: не сошла с ума. Но прожила великую и достойную жизнь, увенчанную впоследствии мученической кончиной. Справедливости ради отметим, что подобных женщин, в том числе благородных сословий, в ее времена в России было много. Они посвящали себя благотворительности, становились сестрами милосердия, жертвовали порой не только трудами своими, но и самой жизнью. Но именно ее пример мы приводим, как наиболее убедительный для нашей темы. Профилактика неизбежного психического срыва через жертвенное служение ближним.
Вот оно «второе начало нравственности» в действии. Если не хочется этот закон называть евангельским или Христовым, назовем его законом св. Елизаветы. Дальше нам придется ссылаться на него постоянно и именно потому, что он имеет самое прямое и непосредственное отношение к психическому состоянию. Подчинение этому закону, сознательное решение начать жить в соответствии с ним является прямой профилактикой психических расстройств. По мнению автора, вообще любых расстройств. Но может быть, не всех, а только большинства из них.
Вопреки распространенному предрассудку подчеркнем все-таки, что жизнь по «закону св. Елизаветы» не есть какой-то сверхчеловеческий подвиг, дающий сверхдолжную награду, а что это есть не более и не менее чем закон нашего душевного устроения. Он не превосходит нашу природу, а учитывает и отражает эту нашу природу и исцеляет ее в нас. Мы созданы с учетом этого закона, он так же неизбежен, как и первое начало кармы, – только менее понятен нам, чем кармический закон. Христос, открыв этот закон нам в своей жизни и служении, не превосходит этим природу человека, а исцеляет ее, вводит любого своего ученика и последователя в мир своего замысла о нас. Творец, изначально создавая человека, так и строил нашу душу. И даже если греховное наше повреждение не дало возможности открыть этот закон людям сразу, а только через посланного Спасителя мира, это не меняет дела. Христос тем и спасает нас, что возвращает к изначальному замыслу, вставляет сломанную и выпавшую из творческого замысла душу человека в ее изначальные природные рамки.
Во времена Ветхого Завета Иов, например, еще не знал этого закона. Потому он и находится на грани срыва, когда пришла беда. Ведь на его глазах простой и понятный закон справедливости, закон кармы явно нарушен. Господи, как же это не кармически! – вот суть всех размышлений в его трагедии.
Новый Завет Иисуса Христа дал здесь явно нечто новое и действенное. Открыл иные закономерности в душевной жизни, предложив соответствующие им пути.
Путь к здоровью, например, глаза, состоит в том, чтобы правильно натренировать и настроить глазные мышцы. А путь к здоровью позвоночника в том, чтобы правильно настроить его мышечный корсет. И путь к здоровью души в том, чтобы ввести ее в законы правильной душевной деятельности, в те законы, которые открыты нам самим нашим Творцом через послание Его Сына, нашего Спасителя. Если у вас проблемы с позвоночником, и вы не занимаетесь ими целенаправленно под руководством врача с учетом всей физиологической науки, то так и будете болеть весь остаток жизни, причем довольно существенно сократите этот остаток. И против этого вроде никто не спорит. Так и наша душа, если не войдет в режим своей «лечебной физкультуры», то не будет исцеленной. Болезнь, пущенная на самотек, прогрессирует. Позвоночник деградирует, душа деградирует. То и другое неизбежно в соответствии с законами своей природы.
И дальше мы конкретно увидим, почему так.
Какие будут возражения?
Наша претензия на открытие нового закона душевного устроения человека может, конечно, насторожить и отпугнуть читателя. Мы предчувствуем град вопросов в стиле: а ставил ли сам Христос вопрос о каком-то законе человеческой природы? А понимал ли апостол Павел свои самоотверженные действия как некое откровение о душевной природе человека? А знала ли св. Елизавета, что ее жизненной выбор обладает статусом закона природы? Может быть, учение о милостыне и сострадании – это не более чем один из полезных советов, который только помогает определенным людям при определенных условиях, и ничуть не более того?
Что ответим на это? Если начать с Евангелия, то учение свое Иисус Христос называет заповедями, полученными от Отца Небесного. Для человека того времени слово Бога Отца в повелительном наклонении носит статус именно закона и не чего-то меньшего. Если Отец устами своего Сына повелевает милостыню, самоограничение в потреблении, полное прощение обидчикам и благотворение врагам, и при этом даже не оговаривает каких-либо особых условий, то это не оставляет нам выбора. Речь должна идти только о законе. Он ставится общим для всех людей, по крайней мере, для всех верующих и ищущих Божьего Царства. Как минимум – это есть условие жизни в Его Царстве. Иными словами, это именно восстановление изначального замысла Творца относительно созданного им человека.
Как ни взглянуть, речь идет о положениях самого высокого статуса.
Если говорить об учении и примерах жизни апостола Павла, если рассмотреть учение о милостыне у св. Иоанна Златоуста и у других св. отцов, то они тоже употребляют здесь слова заповедь Господня, а это и есть подтверждение высокого и обобщающего статуса указанных выше евангельских положений.
Мы ничего не выдумываем здесь, а просто ставим такое положение на вид, на достойное первое место, ведя разговор на поле психологов и психиатров. Наша дерзость в этом отношении выражается лишь в попытке проговорить ясные евангельские истины, обыкновенно не проговариваемые у психологов, и показать прямую связь этих заповедей с психиатрической тематикой, ту связь, которая хорошо доказывается опытом. (Какой-то опыт на эту тему, разумеется, есть и у автора, иначе самый замысел такой книжки никогда бы не появился).
Современным примером может служить книжка Ларисы Пыжьяновой «Разделяя боль». Автор – психолог МЧС, выдержавшая десять лет этого изнурительного служения людям, внезапно потерявшим близких людей в войнах или катастрофах. Я преклоняюсь перед этими людьми, я сам видел работу психологов МЧС с осетинскими беженцами в 2008 г, понимаю, насколько надрывно тяжело их служение, насколько они сами в своей работе практически воплощают «закон св. Елизаветы». И книга сама замечательно написана с христианских позиций, с цитатами священников и епископов. В ней много раз автор подходит совсем близко к этой теме. Лариса видела и описала, как человека исцеляет любовь и сострадание, и как, с другой стороны, калечит эгоизм и повышенное внимание к себе. Ей совсем чуть-чуть не хватило, чтобы добраться до конца и договорить главное, чтобы выставить пример вроде св. Елизаветы и увидеть в нем универсальный жизненный принцип для всей своей работы. И, повторим, перед нами христианка, пусть даже весьма обоснованно опасающаяся перейти на тон пастора или проповедника – и для нее это абсолютно правильно. Что же до других, не верующих психологов, то у них, кроме накачки самооценки, я других рецептов не встречал.
И почему бы, после всего этого, найденный евангельский рецепт не озвучить и не начать применять прямо и без псевдонимов? Доколе разрешать ему действовать только анонимно или черным ходом? Ведь мы же никоим образом не присваиваем ему статуса единственного психотерапевтического приема. Но некая универсальность у заповеди Господней при этом все-таки сохраняется, и это нужно принять: берешь чужую ношу – лечишь свою душу. Друг друга тяготы носите и тако исполните закон Христов (Гал. 6, 2).
Закон, – повторяю. Именно закон Христа. Не я сказал это первым.
Психопатия – штука греховная
В курсе пастырской психиатрии (см., например, В. Каледа «Основы пастырской психиатрии», М. 2021) почему-то различают психопатические состояния, как болезнь, от тех состояний якобы здорового человека, которые описываются категориями греха, нравственного воздействия и покаяния. Психопат почему-то априори объявляется больным, а потому нравственно не ответственным, не состоящим, так сказать, в нравственном поле. В. Каледа цитирует архим. Киприана (Керна): «существуют такие душевные состояния, которые не могут быть определяемы категориями нравственного богословия и которые не входят в понятия добра и зла, добродетели и греха. Это все – те глубины души, которые принадлежат к области психопатологической, а не аскетической» (с. 22).
Однако когда там же начинается описание конкретных симптомов различных видов психических расстройств, то приводимое описание всякий раз показывает именно человеческую греховность, точнее, глубочайший и всеподавляющий эгоизм, который стал таковым путем именно нравственной деградации души, доведя ее до невменяемого состояния. Психопатических расстройств в книге описывается аж целых одиннадцать типов, и, на наш взгляд, объединяющая все из них черта именно эта – эгоизм.
Вот, например, о шизоидном типе и шизофрениках сказано так:
«В их действиях зачастую можно обнаружить недостаток такта и неспособность проникнуть в душевный мир других людей, понять чужие желания, опасения, переживания. Вместе с тем порой шизоиды могут испытывать глубокую, часто труднообъяснимую привязанность к кому-либо, иногда к «случайным» людям. Принципиальность сочетается у них с безразличием к судьбам конкретных людей. При этом их внешнее высокомерие, холодность, иногда бессердечие и даже жестокость могут сочетаться с глубоко скрываемой неудовлетворенностью и неуверенностью в себе» (с. 69).
Ну и как вам? «Высокомерие, бессердечие и жестокость» – это разве не «категории нравственного богословия»? Разве эти «глубины души» оказываются вне понятий добра и зла?