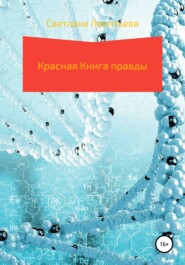По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Ситцевая флейта
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Только свист
соловьиный-разбойничий да твой лонг-хлыст.
Выходи! Мы сразимся! Без шлема,
как и я без шита, без кольчуги, ружья,
одни голые, тощие ветки!
Берестовое тельце, расшита скуфья,
то ли жизнь я твоя, то ли гибель твоя,
то ли боль невозможная, плач твой: О, Светка!
Я, клялась, мол, не я…
Руку на отсечение клала и косы.
Да что руку? Все жилы, все вены, желёзки,
все надрывы, гортани, все горла и оси.
Всё спилила, спалила я, вырвала в осень,
листья сбросив.
Чего же ты хочешь ещё?
Я на поле. Я навзничь хребтом и хрящом.
Хорошо-то, как мне.
Хорошо. Хорошо.
Стоголосно!
Выходи ко мне, смертник мой! Людям скажи
про огромную пропасть во ржи, где стрижи,
но не надо про жизнь, ни к лицу тебе жизнь,
там так больно и остро.
Все поэты – посмертны. Признание за
постчертою, границей оконченной жизни,
подойди и скажи мне об этом в глаза,
что ж ты исподволь? Шлюшно так? Словно гюрза.
Нам осталось до встречи лишь мизер.
***
Быть выше льстецов, палачей да исчадий!
Заступницу ждать Марфу, что на Посаде
по талому снегу шагает легко!
И в ноги ей бросится: время настало!
О, как бы мне в руки меч, что из металла,
о, как бы мне шлем островерхий, забрало
и в глотку мне крик весь, как есть целиком!
Но падает колокол всклень – искалечен,
в осколки разбитый, о, батюшка-Вече,
осколок один откололся мне в грудь!
А рядом народ мой – Посад Новгородский,
плечом ко плечу, грудью в грудь по-сиротски,
кто ранен в живот,
кто орёт, что умрёт,
и спины селёдочные в грязь, что в клёцки,
в комочки кровавые собраны. Жуть!
Неужто всё я – это? Как так? Причастна
я к избам горящим? Себя не вернуть
из этого пламени? С коим сливаться,
о, как мне сплетаться с ним, словно бы в танце,
вот так в меня входит история внутрь…