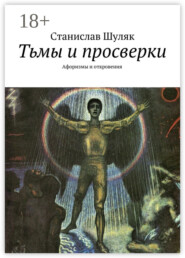По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Инферно. Роман-пасквиль
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Писатель Сумароков тяжело спустился по лестнице и вышел на одну из самых сволочных улиц этого сволочного города – улицу Некрасова, бывшую Бассейную. Да и сам Некрасов сволочью был порядочной, фарисействующим барином, и вот его именем улицу назвали. Это у них всегда так!.. Хотя… а кто из великих у нас не был сволочью или мерзавцем?! А уж каким мерзавцем был Лермонтов! Не зря Мартынов до конца дней своих говорил: довелось бы ему ещё раз убить Лермонтова – убил бы сызнова, и рука б не дрогнула. И вот вам – пожалуйста: проспект именем Лермонтова назван. Впрочем, может быть, есть и более сволочные улицы, это уж кому что нравится, Сумарокову же не нравилось ничего! Он смотрел с отвращением на визжащих во дворе детей, на старух, бессмысленно сидящих на скамейках и глазеющих по сторонам, на грязные стены своих домов. Он не знал, куда ему идти, он не мог сдвинуться с места, он тупо стоял возле своего парадного, и сердце его колотилось тревожно.
«Вот, – сказал себе он. – Вот стоит писатель земли русской Сумароков Павел! Возле дома своего стоит, а на доме даже сраненькой доски никакой нет. Вот подохну я, тридцать лет пройдёт, и будут всё сопли жевать, секции собирать, заседания проводить: вешать доску, не вешать!.. Заслужил Сумароков, не заслужил!.. А мне, может, через тридцать лет доска не нужна. Мне сейчас нужна. И не так, чтобы… „здесь жил и работал…“ А так: „ЖИВЁТ… великий писатель земли русской Павел Васильевич Сумароков“. Живёт… и всегда жить будет. Потому, что право имеет. Трудами своими право жить заслужил. Жить долго. Может, даже всегда. Кто ещё так трудится, как Сумароков? Кто ещё так тяжело думу свою обо всей стране несёт? И думой своей тяжёлой с современниками делится щедро. Да нет, насрать на современников! – с потомками. Если, конечно, людьми будут они, эти потомки. А – нет, так и на них тоже насрать. Труд Сумарокова вообще не для людей, а для кого же, собственно? Для кого, для кого?! А может, для Бога!.. Я и Бог!.. Только я, Сумароков Павел, и Бог, мой визави. Я тружусь, труды Ему свои приношу, а Он меня искушает. Испытывает. А за что испытывает? зачем? – одному только Ему и известно. Да, тяжела дума моя!..»
Сумароков понуро, с сутулой спиною, пошёл со двора. А ведь каким красивым, каким удивительным мог быть его дом, если б семьдесят лет здесь большевики не хозяйничали, а потом ещё эти… Они-то потом всё и угробили, что большевики угробить не успели. Да какая доска? зачем здесь доска? чтоб на неё голуби срали? кому нужна доска? кому нужна слава России? Литературная. Духовная. Историческая. Никому, никому не нужна слава России! Позор нужен, слава – нет!
А всё равно прежнее время было лучше. В прежнее время он был бы по трудам его председателем Союза и не здесь, а в столице; в прежнее время он вышел бы утром из дома, дыша утреннею прохладой и свежестью, а во дворе его уже машина дожидалась бы, а в машине шофёр Петя за рулём дремал бы. Павел Васильевич так в лобовое стекло постучит, Петя из машины выскочит и побежит перед Сумароковым дверь распахивать. Потому как начальство!.. Так вот было бы в прежнее время. Кто не помнит старого времени, тот не знает, а он, Сумароков, помнит, он знает. Где оно, где прежнее время? Нет прежнего времени! Просрали прежнее время; и сами не рады уж, а только сделать ничего нельзя.
Но при всём при том он, Сумароков, никогда бы не стал походить на всех этих жирных московских котов, чьи имена всегда на слуху, которые из всех ящиков, из всех газет и журналов ухмыляются плотоядно, радетелей о благе народном из себя строят! Никакие они не радетели о благе народном, а коты, просто коты, жирные, наглые, хитроумные! Не тем, не тем, кому надо, достаётся слава у нас, в России! Достаётся ловкачам, пройдохам! Истинным же страдальцам и умельцам, истинным талантам – одни плевки и поношения! Эх, Россия, Россия! Глупая, несчастная, заплутавшая!..
Корчась от ярости, Сумароков пошёл мимо Мальцевского рынка; мог бы, конечно, на другую сторону улицы перейти, но нарочно переходить не стал – нравилось ему корчиться. Одни только бандиты, черномазые, да жлобьё новорусское здесь собирается. Ишь – вылизали, вылизали на бандитские деньги! А от бомжей-то не избавились, и избавиться не могли. Потому как сами и наплодили. Сумароков сюда никогда не ходил. Если б мог бы поджечь этот рынок – так поджёг бы непременно, но не мог поджечь, зато мог осудить, зато мог проклясть, зато мог харкнуть слюною своей залежалой, слюною своей прогорклой, яростной. Он так и сделал: подошёл, да под стену рынка шумно харкнул. Старуха, неподалеку торговавшая семечками да арахисом, опасливо отстранилась от безумного седого мужчины и украдкою прикрыла свой товар. Изгнать, изгнать их всех отсюда, как и Спаситель наш изгнал, пусть и не храм это, а торжище, но всё равно изгнать, чтобы духа здесь торгашеского, жлобского, скотского не было, – вот только что народ наш спасёт, сказал себе Сумароков, писатель земли русской.
Шелестели колёса проворных автомобилей по гудроновому плоскогорью проезжей части, Сумароков прошёл ещё квартал, и гнев стал понемногу затихать в его усталом сердце. Из-за угла улицы Радищева вывалила толпа гогочущих парней послепубертатного возраста и смело пошла на Сумарокова. Писатель напрягся; ну он сейчас встретит их отповедью, он им покажет сейчас силу слова своего гневного, безразмерного! Парни мимо прошли, один даже задел Сумарокова, Сумароков шарахнулся к стене дома, отскочил, оскалился и потом долго смотрел с ненавистью парням, этим волчатам, этим зверёнышам вслед. Чёрт, если б у него была с собой трость! нет, не трость – костыль!.. Он даже согласился бы быть хромым или одноногим для этого. За правду нужно платить, за ненависть тоже; он, Сумароков, согласился бы платить за то и другое. Если б он был хромым и ходил с костылем, вот тогда… он бы поднял костыль над собою, он бы крушил яйцеголовые оконечности этих подлых молокососов. Он бил бы по этим головам с мозгами без извилин, он поубивал бы их всех до единого, он даже готов был бы потом принять кару. Да-да, кару, проклятие, наказание! Впрочем, какая кара может быть за этих недоумков? Это ведь тоже самое, что истребить бешеных псов, что истребить волчье племя. Нет у нас, нет у нас молодёжи нормальной, нету! Он так это и на суде скажет, если нужно будет, если оболгут, если опутают, если призовут к ответу. Нет, он не станет молчать! Просрали, всё просрали, и молодёжь тоже просрали, лишились будущего своего! Так вам и надо, так вам и надо, уроды земли русской!
Павел Васильевич обернулся украдкой. Он хотел убедиться, не видел ли кто, как он стушевался сейчас перед этими упругими волчатами. Но кажется, не видел никто. Людишки шагали угрюмо, ни на что не обращая внимания; убивать кого станут – они и тогда внимания не обратят, конечно. Тащилась тётка с кошёлкой, из которой, как из колчана, торчали кривоватые стрелы макарон. Толпился дряненький народец на остановке, впрочем, вполне собой удовлетворённый народец. Через дорогу в палисаднике целовались парень с девушкой, хорошо целовались, красиво, соблазнительно. В его время так не целовались (на людях, конечно). Потом вдруг оторвались друг от друга и, взявшись за руки, быстро-быстро зашагали куда-то.
«Ну вот, – понимающе сказал себе Сумароков. – Минет пошли делать».
Два голубя семенили по карнизу, и оба гадили на ходу. На карниз гадили, да на тротуар. Чего ещё ждать от голубей? Подлые птицы! Подлые птицы подлого мира! Сумарокову вдруг показалось, что кто-то за ним наблюдает со стороны. Да кто, собственно, мог наблюдать за ним? некому совершенно наблюдать за ним!.. Разве какой-нибудь старинный знакомый? Или даже поклонник? Сумароков обернулся ещё раз, и где-то далеко, метрах в пятидесяти от себя заметил фигуру статного красивого человека с темнокожим лицом, с блестящей обритою головой, будто негра или мулата; кажется, он и смотрел на Сумарокова. Но зачем ему смотреть на Сумарокова? Совершенно ведь незачем. Нет у Сумарокова никаких знакомых среди черномазых, нет и не будет, – так вот и знайте себе! Никогда! Сумароков отвернулся с негодованием, но потом отчего-то не выдержал и ещё раз поискал в толпе того негра или мулата, которого видел только что и который будто наблюдал за Сумароковым. Но там, где был мгновение назад чернокожий незнакомец, уже никого не было. Всякий другой народишко был, мулата же не было. Будто исчез, испарился мулат.
«Чёрт! – раздражённо сказал себе Сумароков. – Могу примириться с любыми призраками. Но с тем, что они черномазые!.. Нет уж, благодарю покорно!»
Забытая больная
Я, я, кто это я? разве есть я? последняя буква алфавита? как это глупо! а я меньше даже буквы, меня и вовсе нет, или – нет: я есть, но не стану есть, и всё, что во мне есть, – всё ссохнется, уменьшится и не станет вообще. Вот тогда меня не будет. Придут меня искать – а меня нет. Придут, кто придёт? тот, кто приходит каждый день? я видеть их не могу, глаза мои их не видят. Мои глаза. Не видят их. А их – меня? Глаза, то есть. Может, и они не видят меня. Они смотрят сквозь меня. И разговаривают не со мной, им меня не надо. Для них пустое место важнее человека. Они температуру меряют у пустого места. Температура пустого места. Лучше б они мерили моё исступление. Оно сегодня меньше обычного, ничего не скажешь. И ничего не спросишь. Исступление моё сегодня не выходило из норки. Не надо никого пугать. Не буду никого пугать. Да, решено.
Дайте, дайте мне каши! Не считайте меня безнадёжной! Почему не приходят и не дают мне каши? я люблю кашу, особенно сладкую и на молоке. Я пшённую люблю. А у них всё чаще нет молока. Молока нет. Как же возможно, чтоб не было молока? что же есть, если молока нет? Разве за это мы боролись, чтоб не было молока во всей больнице? Иногда молоко есть, но это как будто они делают одолжение. А какое ж молоко – одолжение? Молоко – это молоко, а не одолжение. Впрочем, я чувствую, что запуталась.
Тревога, вчера была тревога. А зачем мне тревога? Дайте мне что-нибудь от тревоги. Какие-то таблетки. Раньше мне давали их много, сейчас не дают ничего; думают: бесполезно. К чему на меня переводить дорогие лекарства? Мне говорили, что мне помогут. Что ж не помогают? Мне говорили, что мне помогут, если только я помогу себе. Как же я могу помочь себе? Пусть расскажут, если знают сами. Не знают, ничего не знают, только делают вид, а зачем делать вид? я сама могу делать вид. Вы дайте мне не вид, а содержание. Дайте мне что-нибудь от тревоги.
Вокруг много других женщин, но я с ними не говорю. О чём мне говорить с ними? у них свои мысли. Какие у них мысли? К ним приходят по воскресеньям, ко мне не приходит никто. А почему? Разве я старуха и никому не нужна? Никому не нужны не только старухи. Да, верно. Да, ложно. Никто никому не нужен, и сами мы себе не нужны тоже. Плохо только, что я не бываю одна. Мне лучше быть одной, всегда быть одной, чем с чужими. И этим-то моим свойством и воспользовались. Сегодня утром. Перед самым рассветом. Когда вокруг все храпели, а я проснулась и спать не могла, и задыхалась от отвращения. Ещё была тревога. Тогда вдруг дверь приоткрылась, и я не увидела, но только поняла, что кто-то пришёл. Что пришёл он. Ждала ли я его? Нет. Но предполагала, что это возможно. Здесь возможно всё.
Он был легче дуновения сквозняка, легче взгляда, легче падающего листа, я не слышала его передвижения. По этому полу невозможно ходить бесшумно, тот скрипит, будто плачет. А он уверенно скользил между всех спящих женщин. И тогда я накрылась одеялом с головой, я была в тоске. Тоска моя была, как горький неизбывный сироп, сироп полыни, сироп лебеды; невозможно было упиться этим сиропом. Тоска моя даже горше этого тягучего напитка. Изведайте тоску мою, напиток мой и мою пищу! А он уже сидел рядом со мной, знала я. Я медленно, с похолодевшим сердцем стянула одеяло со своего лица и увидела его, сидящего. И рука его уже тянулась к моему лбу. Я позволила ему погладить себя; зачем я только это ему позволила? Так гладят ребёнка перед сном, так гладят умирающего. Он был молод, он был в белом халате, как доктор, но разве он был доктор? Кожа его была каштановой, шоколадной, обритая голова его блестела в предутренней просини. Каким-то немыслимым, потусторонним одеколоном пахло от него. Сразу было видно, что он очень высок и строен, даже сидящий. Может, он учится здесь в медицинском институте, подумала я, и пришел сюда на практику? В ночную смену, что же здесь удивительного?! И что ещё можно было выдумать для того, чтобы себя обмануть?
– Хочу лечь рядом с тобой, – шепнул он мне. – Подвинься.
– Будет слышно, – ответила я тоже шёпотом. – Мы всех перебудим. «Мы»… Я сказала «мы»…
– Они спят, – сказал он. – И ничего не услышат.
Не могло быть, чтобы никто ничего не услышал, как он утверждал. Он нависал надо мной всё более, рослый, красивый, с упругими мускулами, должно быть, спортсмен: бегун или метатель копья, и то и другое было возможно; и что мне ещё оставалось делать? Что ещё оставалось? Только подвинуться, позволить ему лечь рядом.
– Я уже почти старуха, – сказала я. – Зачем я тебе?
– Для меня ты не старуха, – возразил он с приятным акцентом.
Быть может, родной его язык французский или испанский. Какой же язык был ему родным? – гадала я.
– Кожа твоя молода, – сказал он.
Конечно, он обманывал меня, но я задохнулась от счастья.
Он был близок, удивительно близок, он был совсем рядом, от него нельзя было отстраниться.
– Кровать будет скрипеть, – слабо ещё сопротивлялась я.
– Не будет, – спокойно сказал он.
Откуда же он это знал? И правда, кровать будто послушалась его и не стала скрипеть, хотя он лежал рядом, тяжёлый, могучий и великолепный. И места ему вполне хватало рядом со мною.
Он стал трогать мою грудь, зачем он так трогает мою грудь? кто научил его так трогать? Я не знала, что моя грудь способна ещё что-нибудь ощущать. А ещё он стал расстёгивать мой халат, без спроса, без разрешения; он знал, что я не смогла бы ему отказать.
Откуда он здесь взялся? Зачем он здесь? Может, он здесь на практике… на какой практике? и приехал из своего Алжира или Мозамбика, где все такие – с шоколадными лицами, самоуверенные и мускулистые? Но мне не нужны все, мне не нужен никто больше, мне нужен только он, это я знала твёрдо.
– Я здесь на практике, – шепнул он мне вдруг в самое ухо. Ну да, так я ему и поверила! Хотя – а попробуй я не поверь!
Палец его скользнул по моему животу и вдруг запнулся на пупке. Главный шрам начала жизни. Великий шрам. Жизнь начинается здесь. Палец его будто испугался, хотя не мог он испугаться, чего ему пугаться, собственно? Я поёрзала, стараясь устроиться поудобнее. Спящие мои соседки всё ещё смущали меня. Но только не его; его не смущали. Как будто он управлял их снами, он был хозяином их снов, он не давал им никому проснуться, и я должна была быть ему за то благодарной.
Потом он делал ещё что-то, отчего я всё больше забывала себя. Какая неведомая практика привела вдруг тебя ко мне, на мою бедную, нелепую, страдальческую постель? Практика здесь, на этой постели? Ах, как это было хорошо!
И тогда он вошёл в меня, вошёл стремительно, жадно и безжалостно. А я даже и не заметила, когда он успел добраться до цели. Он раскачивался, он содрогался, я раскачивалась и содрогалась вместе с ним в такт. Я помогала ему, я подгоняла его, я вжималась в его тело, я подчинялась ему. Но он и сам знал, как всё нужно было делать, его ничему не нужно было учить; о, он потрясающ, он великолепен! Он единственный! Откуда, откуда только берутся такие практиканты?!
Вот он вдруг извернулся, застонал, застыл на мгновение и вдруг обрушился на меня водопадом, орудийным залпом, смерчем, молнией; блистательные конвульсии сотрясали его непостижимое, немыслимое тело. И меня вместе с ним сотрясали конвульсии. И меня вместе с духом и смыслом его, каковых я не знала прежде, каковых я не знаю и теперь, но лишь прозябала всегда в подспудном ожидании их триумфального появления. Он позволял мне дышать тяжело, он позволял мне дышать мучительно.
Многое потом поменялось, я поменялась, жизнь моя поменялась, и эта кровать, и эта палата, и мои несчастные соседки, и двор, тот, что за этими стенами, и даже сам город. Всё стало другим, лишь он, рядом лежащий, был прежний, удивительный, удивительный!
– Ты теперь уйдёшь? – сказала я, едва отдышавшись.
Он промолчал. О, если бы я только могла выйти отсюда, выбраться за эти стены! Я была бы впредь осмотрительной и ни за что не позволила моему несчастью застать меня врасплох. Я была бы свободной и ощущала бы каждый день, каждый миг жизни как подарок, как несомненный подарок. Я жила бы долго, и годы более не прибавляли мне ни морщин, ни ссадин, ни болезней. Или я теперь обманываю себя? Наверняка обманываю. Быть может, я бы вышла отсюда для того только, чтобы принять смерть внезапную от мчащегося мотоцикла, от разорвавшегося баллона на площади возле метро. Или, может, я упала бы на рельсы перед электричкой. Упала с платформы, когда та подлетает, гремя своими ужасными стальными колёсами. О, я стала бы избегать всех газовых баллонов, я держалась бы от них подальше! Спасите меня от мотоциклистов, от газовых баллонов меня спасите, уберите их от меня! Уберите! Уберите!
– Возьми меня с собою, – попросила я его одними губами.
– Ты нужна мне здесь, – сказал он мне. – Я буду приходить к тебе сюда.
– Сюда не пройти, – сказала я. – Здесь всё на замках.
– Я же здесь, – возразил он мне. – От меня нет замков.
Да, он был здесь, это правда. Он всё ещё был здесь. Лишь несколько мгновений или минут я была с ним. Значит он уйдёт теперь, и я не смогу удержать его, даже вцепившись в его белоснежный халат, так оттеняющий его смуглую кожу, и я опять останусь одна посреди этих глупых несчастных женщин, останусь старой и забытой больною, к которой не приходит никто, и вот лишь только его появление однажды перевернуло, однажды взорвало мою жизнь!
Павлик, Павлик!..
Петроградка. Смутная зона
Фряликов пролетел Каменный остров, почти даже его не заметив. Он только остановился на Ушаковском мосту, тупо глядел в воды Большой Невки, крепко вцепившись в перила, и ветер обдувал его вспотевший лоб и редкие всклокоченные волосы за ушами и на затылке.
– Зачем рождаемся? Да вот зачем мы рождаемся? А потом подыхаем! А? – кричал он воде и небу. Сзади и спереди не было никого, пешеходы будто повымерли, и лишь равнодушные автомобили бессмысленно проносились мимо. – Какая сволочь придумала, чтоб было так? Да ведь это просто даже нелогично, разве не правда? – объяснил ещё Фряликов парящей неподалеку чайке. Чайка послушала немного, потом, отвернув остроносую головку, спикировала на воду в поисках чешуйчатого провианта, но Фряликов к этому времени и сам уже забыл о чайке. – Ведь это же сколько усилий! Сколько энергии! Сколько биомассы! – убеждал хормейстер пыльные облупившиеся перила. – И ведь зачем, зачем это? Вы объясните мне смысл! Вы объясните мне значение! Ага, не можете?! Я так и думал! Я в этом и не сомневался! – торжествующе провозгласил он и зашагал дальше по мосту. Иногда он ожидал всеобщей растерянности перед уникальностью его сверхъестественных внутренних обстоятельств.
«А может, я сегодня на пути к мировой власти, – сказал себе Фряликов. – Всякое ведь бывает! Может, мои ощущения и мои мысли есть обязательное условие для неё. Может, ко мне завтра придут и сообщат: раз вы так ощущаете, раз вы так думаете, так ступайте теперь главенствовать над нами над всеми. А? – сказал Фряликов. – Разве не правда?!»
«Вот, – сказал себе он. – Вот стоит писатель земли русской Сумароков Павел! Возле дома своего стоит, а на доме даже сраненькой доски никакой нет. Вот подохну я, тридцать лет пройдёт, и будут всё сопли жевать, секции собирать, заседания проводить: вешать доску, не вешать!.. Заслужил Сумароков, не заслужил!.. А мне, может, через тридцать лет доска не нужна. Мне сейчас нужна. И не так, чтобы… „здесь жил и работал…“ А так: „ЖИВЁТ… великий писатель земли русской Павел Васильевич Сумароков“. Живёт… и всегда жить будет. Потому, что право имеет. Трудами своими право жить заслужил. Жить долго. Может, даже всегда. Кто ещё так трудится, как Сумароков? Кто ещё так тяжело думу свою обо всей стране несёт? И думой своей тяжёлой с современниками делится щедро. Да нет, насрать на современников! – с потомками. Если, конечно, людьми будут они, эти потомки. А – нет, так и на них тоже насрать. Труд Сумарокова вообще не для людей, а для кого же, собственно? Для кого, для кого?! А может, для Бога!.. Я и Бог!.. Только я, Сумароков Павел, и Бог, мой визави. Я тружусь, труды Ему свои приношу, а Он меня искушает. Испытывает. А за что испытывает? зачем? – одному только Ему и известно. Да, тяжела дума моя!..»
Сумароков понуро, с сутулой спиною, пошёл со двора. А ведь каким красивым, каким удивительным мог быть его дом, если б семьдесят лет здесь большевики не хозяйничали, а потом ещё эти… Они-то потом всё и угробили, что большевики угробить не успели. Да какая доска? зачем здесь доска? чтоб на неё голуби срали? кому нужна доска? кому нужна слава России? Литературная. Духовная. Историческая. Никому, никому не нужна слава России! Позор нужен, слава – нет!
А всё равно прежнее время было лучше. В прежнее время он был бы по трудам его председателем Союза и не здесь, а в столице; в прежнее время он вышел бы утром из дома, дыша утреннею прохладой и свежестью, а во дворе его уже машина дожидалась бы, а в машине шофёр Петя за рулём дремал бы. Павел Васильевич так в лобовое стекло постучит, Петя из машины выскочит и побежит перед Сумароковым дверь распахивать. Потому как начальство!.. Так вот было бы в прежнее время. Кто не помнит старого времени, тот не знает, а он, Сумароков, помнит, он знает. Где оно, где прежнее время? Нет прежнего времени! Просрали прежнее время; и сами не рады уж, а только сделать ничего нельзя.
Но при всём при том он, Сумароков, никогда бы не стал походить на всех этих жирных московских котов, чьи имена всегда на слуху, которые из всех ящиков, из всех газет и журналов ухмыляются плотоядно, радетелей о благе народном из себя строят! Никакие они не радетели о благе народном, а коты, просто коты, жирные, наглые, хитроумные! Не тем, не тем, кому надо, достаётся слава у нас, в России! Достаётся ловкачам, пройдохам! Истинным же страдальцам и умельцам, истинным талантам – одни плевки и поношения! Эх, Россия, Россия! Глупая, несчастная, заплутавшая!..
Корчась от ярости, Сумароков пошёл мимо Мальцевского рынка; мог бы, конечно, на другую сторону улицы перейти, но нарочно переходить не стал – нравилось ему корчиться. Одни только бандиты, черномазые, да жлобьё новорусское здесь собирается. Ишь – вылизали, вылизали на бандитские деньги! А от бомжей-то не избавились, и избавиться не могли. Потому как сами и наплодили. Сумароков сюда никогда не ходил. Если б мог бы поджечь этот рынок – так поджёг бы непременно, но не мог поджечь, зато мог осудить, зато мог проклясть, зато мог харкнуть слюною своей залежалой, слюною своей прогорклой, яростной. Он так и сделал: подошёл, да под стену рынка шумно харкнул. Старуха, неподалеку торговавшая семечками да арахисом, опасливо отстранилась от безумного седого мужчины и украдкою прикрыла свой товар. Изгнать, изгнать их всех отсюда, как и Спаситель наш изгнал, пусть и не храм это, а торжище, но всё равно изгнать, чтобы духа здесь торгашеского, жлобского, скотского не было, – вот только что народ наш спасёт, сказал себе Сумароков, писатель земли русской.
Шелестели колёса проворных автомобилей по гудроновому плоскогорью проезжей части, Сумароков прошёл ещё квартал, и гнев стал понемногу затихать в его усталом сердце. Из-за угла улицы Радищева вывалила толпа гогочущих парней послепубертатного возраста и смело пошла на Сумарокова. Писатель напрягся; ну он сейчас встретит их отповедью, он им покажет сейчас силу слова своего гневного, безразмерного! Парни мимо прошли, один даже задел Сумарокова, Сумароков шарахнулся к стене дома, отскочил, оскалился и потом долго смотрел с ненавистью парням, этим волчатам, этим зверёнышам вслед. Чёрт, если б у него была с собой трость! нет, не трость – костыль!.. Он даже согласился бы быть хромым или одноногим для этого. За правду нужно платить, за ненависть тоже; он, Сумароков, согласился бы платить за то и другое. Если б он был хромым и ходил с костылем, вот тогда… он бы поднял костыль над собою, он бы крушил яйцеголовые оконечности этих подлых молокососов. Он бил бы по этим головам с мозгами без извилин, он поубивал бы их всех до единого, он даже готов был бы потом принять кару. Да-да, кару, проклятие, наказание! Впрочем, какая кара может быть за этих недоумков? Это ведь тоже самое, что истребить бешеных псов, что истребить волчье племя. Нет у нас, нет у нас молодёжи нормальной, нету! Он так это и на суде скажет, если нужно будет, если оболгут, если опутают, если призовут к ответу. Нет, он не станет молчать! Просрали, всё просрали, и молодёжь тоже просрали, лишились будущего своего! Так вам и надо, так вам и надо, уроды земли русской!
Павел Васильевич обернулся украдкой. Он хотел убедиться, не видел ли кто, как он стушевался сейчас перед этими упругими волчатами. Но кажется, не видел никто. Людишки шагали угрюмо, ни на что не обращая внимания; убивать кого станут – они и тогда внимания не обратят, конечно. Тащилась тётка с кошёлкой, из которой, как из колчана, торчали кривоватые стрелы макарон. Толпился дряненький народец на остановке, впрочем, вполне собой удовлетворённый народец. Через дорогу в палисаднике целовались парень с девушкой, хорошо целовались, красиво, соблазнительно. В его время так не целовались (на людях, конечно). Потом вдруг оторвались друг от друга и, взявшись за руки, быстро-быстро зашагали куда-то.
«Ну вот, – понимающе сказал себе Сумароков. – Минет пошли делать».
Два голубя семенили по карнизу, и оба гадили на ходу. На карниз гадили, да на тротуар. Чего ещё ждать от голубей? Подлые птицы! Подлые птицы подлого мира! Сумарокову вдруг показалось, что кто-то за ним наблюдает со стороны. Да кто, собственно, мог наблюдать за ним? некому совершенно наблюдать за ним!.. Разве какой-нибудь старинный знакомый? Или даже поклонник? Сумароков обернулся ещё раз, и где-то далеко, метрах в пятидесяти от себя заметил фигуру статного красивого человека с темнокожим лицом, с блестящей обритою головой, будто негра или мулата; кажется, он и смотрел на Сумарокова. Но зачем ему смотреть на Сумарокова? Совершенно ведь незачем. Нет у Сумарокова никаких знакомых среди черномазых, нет и не будет, – так вот и знайте себе! Никогда! Сумароков отвернулся с негодованием, но потом отчего-то не выдержал и ещё раз поискал в толпе того негра или мулата, которого видел только что и который будто наблюдал за Сумароковым. Но там, где был мгновение назад чернокожий незнакомец, уже никого не было. Всякий другой народишко был, мулата же не было. Будто исчез, испарился мулат.
«Чёрт! – раздражённо сказал себе Сумароков. – Могу примириться с любыми призраками. Но с тем, что они черномазые!.. Нет уж, благодарю покорно!»
Забытая больная
Я, я, кто это я? разве есть я? последняя буква алфавита? как это глупо! а я меньше даже буквы, меня и вовсе нет, или – нет: я есть, но не стану есть, и всё, что во мне есть, – всё ссохнется, уменьшится и не станет вообще. Вот тогда меня не будет. Придут меня искать – а меня нет. Придут, кто придёт? тот, кто приходит каждый день? я видеть их не могу, глаза мои их не видят. Мои глаза. Не видят их. А их – меня? Глаза, то есть. Может, и они не видят меня. Они смотрят сквозь меня. И разговаривают не со мной, им меня не надо. Для них пустое место важнее человека. Они температуру меряют у пустого места. Температура пустого места. Лучше б они мерили моё исступление. Оно сегодня меньше обычного, ничего не скажешь. И ничего не спросишь. Исступление моё сегодня не выходило из норки. Не надо никого пугать. Не буду никого пугать. Да, решено.
Дайте, дайте мне каши! Не считайте меня безнадёжной! Почему не приходят и не дают мне каши? я люблю кашу, особенно сладкую и на молоке. Я пшённую люблю. А у них всё чаще нет молока. Молока нет. Как же возможно, чтоб не было молока? что же есть, если молока нет? Разве за это мы боролись, чтоб не было молока во всей больнице? Иногда молоко есть, но это как будто они делают одолжение. А какое ж молоко – одолжение? Молоко – это молоко, а не одолжение. Впрочем, я чувствую, что запуталась.
Тревога, вчера была тревога. А зачем мне тревога? Дайте мне что-нибудь от тревоги. Какие-то таблетки. Раньше мне давали их много, сейчас не дают ничего; думают: бесполезно. К чему на меня переводить дорогие лекарства? Мне говорили, что мне помогут. Что ж не помогают? Мне говорили, что мне помогут, если только я помогу себе. Как же я могу помочь себе? Пусть расскажут, если знают сами. Не знают, ничего не знают, только делают вид, а зачем делать вид? я сама могу делать вид. Вы дайте мне не вид, а содержание. Дайте мне что-нибудь от тревоги.
Вокруг много других женщин, но я с ними не говорю. О чём мне говорить с ними? у них свои мысли. Какие у них мысли? К ним приходят по воскресеньям, ко мне не приходит никто. А почему? Разве я старуха и никому не нужна? Никому не нужны не только старухи. Да, верно. Да, ложно. Никто никому не нужен, и сами мы себе не нужны тоже. Плохо только, что я не бываю одна. Мне лучше быть одной, всегда быть одной, чем с чужими. И этим-то моим свойством и воспользовались. Сегодня утром. Перед самым рассветом. Когда вокруг все храпели, а я проснулась и спать не могла, и задыхалась от отвращения. Ещё была тревога. Тогда вдруг дверь приоткрылась, и я не увидела, но только поняла, что кто-то пришёл. Что пришёл он. Ждала ли я его? Нет. Но предполагала, что это возможно. Здесь возможно всё.
Он был легче дуновения сквозняка, легче взгляда, легче падающего листа, я не слышала его передвижения. По этому полу невозможно ходить бесшумно, тот скрипит, будто плачет. А он уверенно скользил между всех спящих женщин. И тогда я накрылась одеялом с головой, я была в тоске. Тоска моя была, как горький неизбывный сироп, сироп полыни, сироп лебеды; невозможно было упиться этим сиропом. Тоска моя даже горше этого тягучего напитка. Изведайте тоску мою, напиток мой и мою пищу! А он уже сидел рядом со мной, знала я. Я медленно, с похолодевшим сердцем стянула одеяло со своего лица и увидела его, сидящего. И рука его уже тянулась к моему лбу. Я позволила ему погладить себя; зачем я только это ему позволила? Так гладят ребёнка перед сном, так гладят умирающего. Он был молод, он был в белом халате, как доктор, но разве он был доктор? Кожа его была каштановой, шоколадной, обритая голова его блестела в предутренней просини. Каким-то немыслимым, потусторонним одеколоном пахло от него. Сразу было видно, что он очень высок и строен, даже сидящий. Может, он учится здесь в медицинском институте, подумала я, и пришел сюда на практику? В ночную смену, что же здесь удивительного?! И что ещё можно было выдумать для того, чтобы себя обмануть?
– Хочу лечь рядом с тобой, – шепнул он мне. – Подвинься.
– Будет слышно, – ответила я тоже шёпотом. – Мы всех перебудим. «Мы»… Я сказала «мы»…
– Они спят, – сказал он. – И ничего не услышат.
Не могло быть, чтобы никто ничего не услышал, как он утверждал. Он нависал надо мной всё более, рослый, красивый, с упругими мускулами, должно быть, спортсмен: бегун или метатель копья, и то и другое было возможно; и что мне ещё оставалось делать? Что ещё оставалось? Только подвинуться, позволить ему лечь рядом.
– Я уже почти старуха, – сказала я. – Зачем я тебе?
– Для меня ты не старуха, – возразил он с приятным акцентом.
Быть может, родной его язык французский или испанский. Какой же язык был ему родным? – гадала я.
– Кожа твоя молода, – сказал он.
Конечно, он обманывал меня, но я задохнулась от счастья.
Он был близок, удивительно близок, он был совсем рядом, от него нельзя было отстраниться.
– Кровать будет скрипеть, – слабо ещё сопротивлялась я.
– Не будет, – спокойно сказал он.
Откуда же он это знал? И правда, кровать будто послушалась его и не стала скрипеть, хотя он лежал рядом, тяжёлый, могучий и великолепный. И места ему вполне хватало рядом со мною.
Он стал трогать мою грудь, зачем он так трогает мою грудь? кто научил его так трогать? Я не знала, что моя грудь способна ещё что-нибудь ощущать. А ещё он стал расстёгивать мой халат, без спроса, без разрешения; он знал, что я не смогла бы ему отказать.
Откуда он здесь взялся? Зачем он здесь? Может, он здесь на практике… на какой практике? и приехал из своего Алжира или Мозамбика, где все такие – с шоколадными лицами, самоуверенные и мускулистые? Но мне не нужны все, мне не нужен никто больше, мне нужен только он, это я знала твёрдо.
– Я здесь на практике, – шепнул он мне вдруг в самое ухо. Ну да, так я ему и поверила! Хотя – а попробуй я не поверь!
Палец его скользнул по моему животу и вдруг запнулся на пупке. Главный шрам начала жизни. Великий шрам. Жизнь начинается здесь. Палец его будто испугался, хотя не мог он испугаться, чего ему пугаться, собственно? Я поёрзала, стараясь устроиться поудобнее. Спящие мои соседки всё ещё смущали меня. Но только не его; его не смущали. Как будто он управлял их снами, он был хозяином их снов, он не давал им никому проснуться, и я должна была быть ему за то благодарной.
Потом он делал ещё что-то, отчего я всё больше забывала себя. Какая неведомая практика привела вдруг тебя ко мне, на мою бедную, нелепую, страдальческую постель? Практика здесь, на этой постели? Ах, как это было хорошо!
И тогда он вошёл в меня, вошёл стремительно, жадно и безжалостно. А я даже и не заметила, когда он успел добраться до цели. Он раскачивался, он содрогался, я раскачивалась и содрогалась вместе с ним в такт. Я помогала ему, я подгоняла его, я вжималась в его тело, я подчинялась ему. Но он и сам знал, как всё нужно было делать, его ничему не нужно было учить; о, он потрясающ, он великолепен! Он единственный! Откуда, откуда только берутся такие практиканты?!
Вот он вдруг извернулся, застонал, застыл на мгновение и вдруг обрушился на меня водопадом, орудийным залпом, смерчем, молнией; блистательные конвульсии сотрясали его непостижимое, немыслимое тело. И меня вместе с ним сотрясали конвульсии. И меня вместе с духом и смыслом его, каковых я не знала прежде, каковых я не знаю и теперь, но лишь прозябала всегда в подспудном ожидании их триумфального появления. Он позволял мне дышать тяжело, он позволял мне дышать мучительно.
Многое потом поменялось, я поменялась, жизнь моя поменялась, и эта кровать, и эта палата, и мои несчастные соседки, и двор, тот, что за этими стенами, и даже сам город. Всё стало другим, лишь он, рядом лежащий, был прежний, удивительный, удивительный!
– Ты теперь уйдёшь? – сказала я, едва отдышавшись.
Он промолчал. О, если бы я только могла выйти отсюда, выбраться за эти стены! Я была бы впредь осмотрительной и ни за что не позволила моему несчастью застать меня врасплох. Я была бы свободной и ощущала бы каждый день, каждый миг жизни как подарок, как несомненный подарок. Я жила бы долго, и годы более не прибавляли мне ни морщин, ни ссадин, ни болезней. Или я теперь обманываю себя? Наверняка обманываю. Быть может, я бы вышла отсюда для того только, чтобы принять смерть внезапную от мчащегося мотоцикла, от разорвавшегося баллона на площади возле метро. Или, может, я упала бы на рельсы перед электричкой. Упала с платформы, когда та подлетает, гремя своими ужасными стальными колёсами. О, я стала бы избегать всех газовых баллонов, я держалась бы от них подальше! Спасите меня от мотоциклистов, от газовых баллонов меня спасите, уберите их от меня! Уберите! Уберите!
– Возьми меня с собою, – попросила я его одними губами.
– Ты нужна мне здесь, – сказал он мне. – Я буду приходить к тебе сюда.
– Сюда не пройти, – сказала я. – Здесь всё на замках.
– Я же здесь, – возразил он мне. – От меня нет замков.
Да, он был здесь, это правда. Он всё ещё был здесь. Лишь несколько мгновений или минут я была с ним. Значит он уйдёт теперь, и я не смогу удержать его, даже вцепившись в его белоснежный халат, так оттеняющий его смуглую кожу, и я опять останусь одна посреди этих глупых несчастных женщин, останусь старой и забытой больною, к которой не приходит никто, и вот лишь только его появление однажды перевернуло, однажды взорвало мою жизнь!
Павлик, Павлик!..
Петроградка. Смутная зона
Фряликов пролетел Каменный остров, почти даже его не заметив. Он только остановился на Ушаковском мосту, тупо глядел в воды Большой Невки, крепко вцепившись в перила, и ветер обдувал его вспотевший лоб и редкие всклокоченные волосы за ушами и на затылке.
– Зачем рождаемся? Да вот зачем мы рождаемся? А потом подыхаем! А? – кричал он воде и небу. Сзади и спереди не было никого, пешеходы будто повымерли, и лишь равнодушные автомобили бессмысленно проносились мимо. – Какая сволочь придумала, чтоб было так? Да ведь это просто даже нелогично, разве не правда? – объяснил ещё Фряликов парящей неподалеку чайке. Чайка послушала немного, потом, отвернув остроносую головку, спикировала на воду в поисках чешуйчатого провианта, но Фряликов к этому времени и сам уже забыл о чайке. – Ведь это же сколько усилий! Сколько энергии! Сколько биомассы! – убеждал хормейстер пыльные облупившиеся перила. – И ведь зачем, зачем это? Вы объясните мне смысл! Вы объясните мне значение! Ага, не можете?! Я так и думал! Я в этом и не сомневался! – торжествующе провозгласил он и зашагал дальше по мосту. Иногда он ожидал всеобщей растерянности перед уникальностью его сверхъестественных внутренних обстоятельств.
«А может, я сегодня на пути к мировой власти, – сказал себе Фряликов. – Всякое ведь бывает! Может, мои ощущения и мои мысли есть обязательное условие для неё. Может, ко мне завтра придут и сообщат: раз вы так ощущаете, раз вы так думаете, так ступайте теперь главенствовать над нами над всеми. А? – сказал Фряликов. – Разве не правда?!»