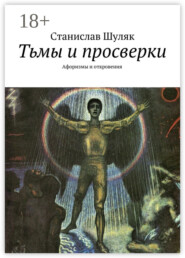По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Инферно. Роман-пасквиль
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Фряликов обернулся, и его тотчас передёрнуло. Сзади стоял Гена Григорьев с синей сумкой через плечо, с бутылкой пива в одной руке и недоеденной шавермой в другой. Гене было под шестьдесят, или даже все шестьдесят, пожалуй, он был в светло-серых клетчатых брючках, в грязной клетчатой же рубашке, в мятой расстёгнутой курке, и концы шарфа вылезали у Гены откуда-то из подмышек. Нос и борода его были все в соплях и майонезе.
– По каким это блядям? – кисло спросил Фряликов, готовясь от Григорьева выслушать какую-нибудь пакость.
– Да есть тут такие. Одна моя ученица, а другая бывшая подружка Аркашки Драгомощенко. Аркашка мне её как-то в карты проиграл в Сестрорецке. Он тогда только так рукой махнул: если уж так вышло, то и хер с ней. И уехал в город. Мне вот только ещё сейчас на радио надо, Серёжку с Сашкой повидать, я им пьесу несу, они уже в сорока моих пьесах играли, я должен сказать, что им делать надо… Мне Серёжка Дрейден сказал: ты, Гена, давай мне экстрима побольше: чтоб я на дерево лез, с парашютом прыгал, в реке тонул, на плоту плыл. Чтоб вулкан извергался, чтоб гроза была. И чтоб ритм всё время рваный, он это хорошо чувствует. Ну вот, я так всё и сделал. Там, если Галька, режиссёр, на полчаса выйдет, поссать или кофе попить, я сам у них всё поставлю. Мне ребята говорят, что я лучше Гальки всё делаю. И Коля Крыщук говорит то же. А ещё я скоро в Эстонию поеду, а потом в Крым, мне надо паспорт сделать, в ОВИР зайти, а потом на радио, ну а вечером уже можно по блядям сходить… возле метро «Московская»…
Григорьев откусил пол шавермы, измазав брови майонезом, и запил шаверму пивом.
– Хочешь? – протянул Григорьев бутылку своему собеседнику.
Пиво Фряликов хотел, но он посмотрел на бутылку, в которой очевидным образом плавали крошки из григорьевского рта, и с отвращением отказался. Вот если б не от Григорьева было пиво, тогда не отказался бы точно, а после Гены пить было невозможно. Фряликов сглотнул слюну и потоптался на месте нетерпеливо.
– Утрись! – сказал он только, глядя мимо Гены.
Григорьев беспрекословно утёрся шарфом и размазал всё, что было на бороде, на бровях же майонез остался.
– Ему так даже лучше, – подумал Фряликов. – Пусть себе, придурок, ходит в майонезе.
– Что-то ты сегодня, вроде, не в себе, – сказал Григорьев.
– Как это так – не в себе?! – со злостью спросил хормейстер.
– Ну так… на себя не похож!
– Что ты такое городишь?! – крикнул Фряликов.
– Ну, другой какой-то стал, – рассудительно сказал ещё Гена.
Фряликов отстранился. Он хотел было посмотреться в стекле каком-нибудь, а хоть бы и в витрине, но всё не попадалось ему ничего подходящего, где бы можно было хоть что-то увидеть.
Григорьев же сделал выражение на лице, как будто собирался читать свои стихи. Похоже, он и впрямь собирался их читать. Он не мог и двух минут постоять спокойно, чтобы на него не обращали внимание.
– Ну ладно, мне пора, – сказал Фряликов.
– А ты куда собрался? – спросил Гена.
– В центр, – мрачно сказал Фряликов. – У меня встреча, может быть.
– А с кем встреча-то? – поинтересовался Григорьев.
– Это моё дело! – огрызнулся хормейстер. – Тебе сейчас скажи – так тебе тоже захочется!
Фряликов стал уходить, но Гена увязался за ним; а никто, собственно, и не предполагал, что не увяжется. Плохо нужно было Гену знать, чтобы предположить такое, а Гену все знали хорошо.
– Мне тоже в центр, – сказал Гена. – Ну так что, пиво станешь? – спросил ещё он.
– Пивко, значит, любишь? – желчно сказал Фряликов, взглянув мельком на Генины руки. А руки были в мезозойских мозолях, да и под ногтями его чернел прошлогодний аллювий.
«Как славно в час душевного отлива, – со вкусом начал декламировать настырный Григорьев, помахивая пивной бутылкой, уже почти пустою:
Забыв, что есть и недруг, и недуг,
Пить медленное мартовское пиво
В столовой Академии Наук».
Гена откусил ещё от шавермы и, пропустив несколько катренов, продолжил, роняя изо рта куски пищи:
«Академичка! Кладбищем надежд
Мальчишеских осталась для кого-то
Местечко, расположенное меж
Кунсткамерой и клиникою Отта».
– Самого б тебя в клинику Отта! – оскалился Фряликов.
– Ты бывал там? Помнишь? – допытывался Гена.
– В клинике Отта?
– В академической столовке, – возразил Григорьев. – А мы там все бывали. И Витя Кривулин, покойник. И Лева Лурье. И Витька Топоров. И Саша Кушнер. И все прочие жиды. А цены там были… ты не представляешь! Кофе – три копейки. Это если простой и без сахара. Двойной – шесть. Если тоже без сахара. А делали ещё и тройной. Для любителей.
– Сколько стоил? – ядовито спросил Фряликов. Можно подумать, было ему какое-то дело до кофе без сахара, продаваемого где-то лет тридцать или сорок назад, ещё при социализме. В нём, кажется, засел сатирический соглядатай, в нём всегда сидел сатирический соглядатай; он вообще теперь изрядно заплутал в своём сомнительном амплуа.
– Не помню, – сознался Гена. – Слушай, – стал ещё говорить он, – а хочешь, купи в Крыму землю возле меня, стоит дёшево, до моря пятнадцать минут, я уже там всех наших собрал. У меня там дом, ну, сарай фактически, но мне больше и не надо, и земли чуть-чуть; кто-то виноград сажает, а мне это не нужно, там вино и так хорошее и недорогое. Я туда уже половину Союза писателей затащил, все дома себе купили.
– Ну, конечно, – громко говорил Фряликов. – Обезьянника им в Сухуми мало, им ещё зверинец в Крыму подавай!
– Ты не понимаешь. Я хочу там создать уголок с петербургской аурой, я организую там всероссийский театральный фестиваль, – с достоинством говорил Гена, помахивая остатками шавермы. Жидковатый, разведённый майонез затекал ему в рукава, но увлёкшийся Григорьев на это никакого внимания не обращал.
Фряликов прибавил шагу.
– Крым у хохлов вообще-то, – буркнул он, не оборачиваясь.
– Да это неважно, – возразил Гена. – Хохлы – отличные ребята. Да там, если хочешь знать, хохлов вообще нет. Там, в Крыму, вообще одни русские, да татары охохлившиеся. Они хохлами только прикидываются, ничего в них нет настоящего хохляцкого.
– Что, и сало не едят?
– Сало едят. Сало все едят. Сало я сам ем, – возразил Гена Григорьев. – А ты что, не ешь сало?
Фряликов шёл, руками размахивая, как вертолёт лопастями.
«Чёрт побери, – думал он, – отчего это день начинается с того, что разговариваешь с уродами? И так тут, того и гляди, в гермафродита превратишься, так тут же тебе ещё этот! Что это за день такой?!» – с тоскою думал Фряликов.
– Слушай, – только и сказал он Гене, – а чего тебя Топоров в своей книге гнидой назвал?
– Подумаешь! – ничуть не смущаясь, говорил Гена. – Я его в поэме Абрамом Колуновым назвал. Поэма такая… «День „Зенита“».
– Я знаю! Знаю! – заорал Фряликов, упреждая новую порцию Гениных стихов.
Григорьев и Фряликов прошли уже Новосибирскую и свернули в Торжковскую, по которой ходил трамвай; народишко здесь вблизи от метро сновал весьма оживлённо. У обочины дороги вереницею притулилась стайка маршрутных такси на кольце. Ковылял разукрашенный какой-то идиотской рекламой троллейбус. Фряликов с омерзением наблюдал, как взад-вперёд своими жалкими суетливыми человечьими походками бегут разнообразные ничтожные прохожие.