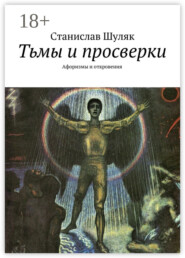По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Инферно. Роман-пасквиль
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Простите, – говорил пожилой человек.
– Да, – сказал Сумароков.
– Вы ведь писатель, кажется. Я только забыл вашу фамилию.
– Сумароков, – приосанившись, говорил Павел Васильевич. Была вдруг минута успеха, была минута справедливости, минута торжества; так редко в жизни случаются подобные минуты!
– Ах да. Павел Васильевич, кажется.
– Точно так, – подтвердил Сумароков.
– А я, – сказал господин в чёрном костюме, – Нежноп Иван Иванович. Бухгалтер. Профессия моя – бухгалтер. Очень ответственная, знаете ли, по нынешним временам профессия.
– Очень приятно, – кисло сказал Сумароков. Что уж они так все слетелись на него? Русский человек не пьёт водку один, это нормально; но разве уж у него не осталось и права выбора компании для себя? Разве он должен теперь пить водку, когда на него так глазеют все эти… как на витрину какую-нибудь. А он не витрина, он – писатель земли русской.
– А вы? – сказала девушка из-за соседнего столика.
– Что ещё? – спросил пришелец.
– Стометровка, – объяснила девушка. – Может, вы согласились бы?
– На что согласился? – сухо спросил ещё тот.
– Пробежать её вместе со мной.
– Прекратите вы! – сказал господин в чёрном костюме. – Если вы больны, так лечитесь или сидите дома. Именно так: лечитесь или сидите дома!
– Что?! – вспыхнула девушка, вскочив из-за столика. Она схватила с вешалки ветровку и гневно выбежала из забегаловки.
– Ну зачем же так?! – вступился вдруг Сумароков.
– Простите, – сказал Иван Иванович. – Я не знал, что это ваша девушка.
– Вовсе не моя.
– Тем более, что она сумасшедшая. Её здесь все знают. Её так и называют: девушка со стометровками.
– Вот как! – буркнул недовольный Сумароков, не знавший теперь, что ещё говорить.
– Но я, Павел Васильевич, человек деликатный и вряд ли позволил себе побеспокоить вас, если бы не крайняя необходимость.
Сумароков с беспокойством смотрел на Ивана Ивановича: сейчас ещё начнёт на судьбу жаловаться, станет требовать участия, да ещё, чего доброго, и денег попросит. Отчего-то все думают, что писатели богатые. Ни черта писатели не богатые, сейчас не те времена!
– Павел Васильевич, – сказал вдруг Нежноп, сказал другим тоном, который обозначал что-то более прежнего важное и существенное, – не могли бы вы мне помочь повесить племянника?!
– Что? – вздрогнув, сказал Сумароков.
– Да-да, – подтвердил господин в чёрном костюме. – Вы правильно поняли меня. Я прошу вас помочь мне повесить племянника.
– Чьего племянника?
– Моего, разумеется. Не вашего же! У вас, может, и нет племянника, ну а если бы даже и был, какое бы я имел право предлагать вам его повесить? – сказал ещё сей странный человек.
– А почему вы хотите его повесить? – спросил Сумароков. – Своего, так сказать, племянника.
– Не «так сказать», а самого что ни на есть племянника. Уверяю вас, это действительно мой ближайший родственник. Я его с младых ногтей помню и всегда принимал посильное участие в воспитании мальчика.
– Ну, пусть будет так. Почему ж его вешать-то?
– Да он сам этого хочет, уверяю вас. Он с давних пор одержим мыслью о смерти. Он даже лечился… вернее, мы его лечили, но ничто не помогает. Очень тяжёлый случай!
– Не помогает? – переспросил Сумароков.
– Абсолютно, – мотнул головой Иван Иванович Нежноп. – Он и на Пряжке лежал, и к экстрасенсу его водили, и бабушки над ним шептали, и батюшка его крестил, и всё без толку: умру, говорит, себя истреблю или пусть кто другой меня истребит – всё равно жить не буду. Ну, может, не совсем в этих словах, но смысл такой.
– А сколько лет-то племяннику вашему? – тяжело подумав, спросил ещё Павел Васильевич.
– Двадцать четыре, – с сожалением отвечал Нежноп. – Жить бы и жить, но нет, не хочет. Вы вот в двадцать четыре много задумывались о смерти? Сомневаюсь! Хотя вы и писатель. А он не может жить, не хочет и не умеет. И потому я как дядя самых честных правил, видя, что родной племянник мучается… и тоже честных правил… у нас в семье все такие… наконец, сказал себе… и ему тоже: не получается – так и не надо. Пусть другие живут, у кого получается. Или кто чувствует не так. Родители мальчишки, конечно, поначалу в слёзы, но слезами горю не поможешь. Вот и они наконец примирились, махнули рукой.
– Ну, если так, взял бы сам давно и повесился! И никому другому предлагать не надо было бы.
– Да он хочет! Хочет! – замахал руками господин в чёрном костюме. – У него только духа не хватает. А так у него даже верёвка припасена, и крюк над окном приготовлен.
– Ну, а я-то при чём здесь? – спрашивал Сумароков. – Я ведь даже не знаком с этим вашим племянником.
– Да это неважно. Совершенно неважно, что не знакомы. Вы ведь, Павел Васильевич, душ человеческих инженер. И можете с ним поговорить по-инженерски, так сказать… Объяснить ему, что и как! Пристыдить, приструнить! Но позвольте, я прежде угощу вас водочкой. Прошу вас, не стесняйтесь, пожалуйста, и не отказывайтесь!
– Но только пятьдесят грамм, – предостерегающе сказал Сумароков.
– Пятьдесят, пятьдесят! – замахал руками Нежноп. – Мы, мужчины, пожившие, так сказать… норму свою завсегда соблюдаем.
Иван Иванович пошёл к стойке, Сумароков посидел немного, но смутное беспокойство гнездилось в его душе. И тогда он встал, и поплёлся за Иваном Ивановичем.
– Любочка, – сказал Нежноп. – Нам, пожалуйста, с Павлом Васильевичем по пятьдесят водки.
– Какой? – сухо спросила Люба.
– Нашей, но самой лучшей, – сказал Иван Иванович, издали рассматривая бутылки над головой Любы. – Мы же с Павлом Васильевичем люди русские как-никак. И колбаски вот этой вот, копчёной, – сказал ещё он. – Тоже отечественной.
– «Госдумовки» или «Пропойной»? – уточнила ещё Люба, разумея под сим марки напитка.
«Госдумовка» была отвергнута, остановились на «Пропойной».
Люба стала наливать. Сумароков топтался за спиной у своего нового знакомца.
– Хорошо, что эта ушла, – сказала Люба, не отрывая глаз от прозрачной мензурки. – Она часто сюда ходит. Ей бы только эффекты производить. Я ведь тоже так могу: «Пробегите со мной стометровку! Пробегите со мной стометровку!» Но я же так не делаю… Ведь до чего же есть бессовестные женщины, – вздохнула ещё Люба.
– Да, – сказал Иван Иванович.
– Да, – сказал Сумароков.
– Вы ведь писатель, кажется. Я только забыл вашу фамилию.
– Сумароков, – приосанившись, говорил Павел Васильевич. Была вдруг минута успеха, была минута справедливости, минута торжества; так редко в жизни случаются подобные минуты!
– Ах да. Павел Васильевич, кажется.
– Точно так, – подтвердил Сумароков.
– А я, – сказал господин в чёрном костюме, – Нежноп Иван Иванович. Бухгалтер. Профессия моя – бухгалтер. Очень ответственная, знаете ли, по нынешним временам профессия.
– Очень приятно, – кисло сказал Сумароков. Что уж они так все слетелись на него? Русский человек не пьёт водку один, это нормально; но разве уж у него не осталось и права выбора компании для себя? Разве он должен теперь пить водку, когда на него так глазеют все эти… как на витрину какую-нибудь. А он не витрина, он – писатель земли русской.
– А вы? – сказала девушка из-за соседнего столика.
– Что ещё? – спросил пришелец.
– Стометровка, – объяснила девушка. – Может, вы согласились бы?
– На что согласился? – сухо спросил ещё тот.
– Пробежать её вместе со мной.
– Прекратите вы! – сказал господин в чёрном костюме. – Если вы больны, так лечитесь или сидите дома. Именно так: лечитесь или сидите дома!
– Что?! – вспыхнула девушка, вскочив из-за столика. Она схватила с вешалки ветровку и гневно выбежала из забегаловки.
– Ну зачем же так?! – вступился вдруг Сумароков.
– Простите, – сказал Иван Иванович. – Я не знал, что это ваша девушка.
– Вовсе не моя.
– Тем более, что она сумасшедшая. Её здесь все знают. Её так и называют: девушка со стометровками.
– Вот как! – буркнул недовольный Сумароков, не знавший теперь, что ещё говорить.
– Но я, Павел Васильевич, человек деликатный и вряд ли позволил себе побеспокоить вас, если бы не крайняя необходимость.
Сумароков с беспокойством смотрел на Ивана Ивановича: сейчас ещё начнёт на судьбу жаловаться, станет требовать участия, да ещё, чего доброго, и денег попросит. Отчего-то все думают, что писатели богатые. Ни черта писатели не богатые, сейчас не те времена!
– Павел Васильевич, – сказал вдруг Нежноп, сказал другим тоном, который обозначал что-то более прежнего важное и существенное, – не могли бы вы мне помочь повесить племянника?!
– Что? – вздрогнув, сказал Сумароков.
– Да-да, – подтвердил господин в чёрном костюме. – Вы правильно поняли меня. Я прошу вас помочь мне повесить племянника.
– Чьего племянника?
– Моего, разумеется. Не вашего же! У вас, может, и нет племянника, ну а если бы даже и был, какое бы я имел право предлагать вам его повесить? – сказал ещё сей странный человек.
– А почему вы хотите его повесить? – спросил Сумароков. – Своего, так сказать, племянника.
– Не «так сказать», а самого что ни на есть племянника. Уверяю вас, это действительно мой ближайший родственник. Я его с младых ногтей помню и всегда принимал посильное участие в воспитании мальчика.
– Ну, пусть будет так. Почему ж его вешать-то?
– Да он сам этого хочет, уверяю вас. Он с давних пор одержим мыслью о смерти. Он даже лечился… вернее, мы его лечили, но ничто не помогает. Очень тяжёлый случай!
– Не помогает? – переспросил Сумароков.
– Абсолютно, – мотнул головой Иван Иванович Нежноп. – Он и на Пряжке лежал, и к экстрасенсу его водили, и бабушки над ним шептали, и батюшка его крестил, и всё без толку: умру, говорит, себя истреблю или пусть кто другой меня истребит – всё равно жить не буду. Ну, может, не совсем в этих словах, но смысл такой.
– А сколько лет-то племяннику вашему? – тяжело подумав, спросил ещё Павел Васильевич.
– Двадцать четыре, – с сожалением отвечал Нежноп. – Жить бы и жить, но нет, не хочет. Вы вот в двадцать четыре много задумывались о смерти? Сомневаюсь! Хотя вы и писатель. А он не может жить, не хочет и не умеет. И потому я как дядя самых честных правил, видя, что родной племянник мучается… и тоже честных правил… у нас в семье все такие… наконец, сказал себе… и ему тоже: не получается – так и не надо. Пусть другие живут, у кого получается. Или кто чувствует не так. Родители мальчишки, конечно, поначалу в слёзы, но слезами горю не поможешь. Вот и они наконец примирились, махнули рукой.
– Ну, если так, взял бы сам давно и повесился! И никому другому предлагать не надо было бы.
– Да он хочет! Хочет! – замахал руками господин в чёрном костюме. – У него только духа не хватает. А так у него даже верёвка припасена, и крюк над окном приготовлен.
– Ну, а я-то при чём здесь? – спрашивал Сумароков. – Я ведь даже не знаком с этим вашим племянником.
– Да это неважно. Совершенно неважно, что не знакомы. Вы ведь, Павел Васильевич, душ человеческих инженер. И можете с ним поговорить по-инженерски, так сказать… Объяснить ему, что и как! Пристыдить, приструнить! Но позвольте, я прежде угощу вас водочкой. Прошу вас, не стесняйтесь, пожалуйста, и не отказывайтесь!
– Но только пятьдесят грамм, – предостерегающе сказал Сумароков.
– Пятьдесят, пятьдесят! – замахал руками Нежноп. – Мы, мужчины, пожившие, так сказать… норму свою завсегда соблюдаем.
Иван Иванович пошёл к стойке, Сумароков посидел немного, но смутное беспокойство гнездилось в его душе. И тогда он встал, и поплёлся за Иваном Ивановичем.
– Любочка, – сказал Нежноп. – Нам, пожалуйста, с Павлом Васильевичем по пятьдесят водки.
– Какой? – сухо спросила Люба.
– Нашей, но самой лучшей, – сказал Иван Иванович, издали рассматривая бутылки над головой Любы. – Мы же с Павлом Васильевичем люди русские как-никак. И колбаски вот этой вот, копчёной, – сказал ещё он. – Тоже отечественной.
– «Госдумовки» или «Пропойной»? – уточнила ещё Люба, разумея под сим марки напитка.
«Госдумовка» была отвергнута, остановились на «Пропойной».
Люба стала наливать. Сумароков топтался за спиной у своего нового знакомца.
– Хорошо, что эта ушла, – сказала Люба, не отрывая глаз от прозрачной мензурки. – Она часто сюда ходит. Ей бы только эффекты производить. Я ведь тоже так могу: «Пробегите со мной стометровку! Пробегите со мной стометровку!» Но я же так не делаю… Ведь до чего же есть бессовестные женщины, – вздохнула ещё Люба.
– Да, – сказал Иван Иванович.