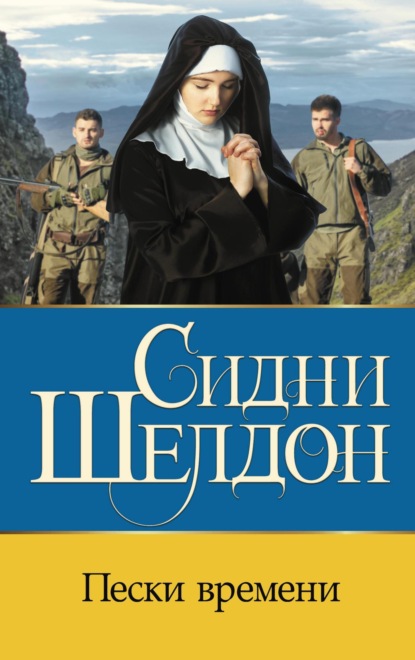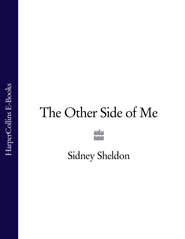По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Пески времени
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но более всего Лючии действовала на нервы противоестественная тишина. Для общения использовался лишь язык жестов, и его изучение сводило с ума. Если ей требовался веник, нужно было помахать вытянутой рукой из стороны в сторону, словно подметаешь. Если что-то вызывало недовольство матери-настоятельницы, она трижды крепко соединяла перед собой мизинцы, в то время как остальные пальцы прижимала к ладоням. Если ей казалось, что кто-то слишком медленно выполняет свою работу, она прижимала ладонь правой руки к своему левому плечу. Чтобы сделать замечание, она начинала скрести собственную щеку возле правого уха сверху вниз.
«Господи, – думала в таких случаях Лючия, – это выглядит так, словно ее одолели вши».
Войдя в часовню, сестры принялись мысленно читать молитвы, только вот Лючия думала совсем о другом: дай бог, через месяц-два полиция перестанет ее искать, и тогда можно будет выбраться из этого дурдома.
После утренней молитвы Лючия отправлялась вслед за остальными монахинями в трапезную, ежедневно нарушая установленные в монастыре правила тем, что тайком рассматривала их лица. Это стало ее единственным развлечением. То обстоятельство, что ни одна из сестер не знала, как выглядят другие, казалось ей просто невероятным.
Лица монахинь ее завораживали. Были среди них старые и молодые, красивые и уродливые. Лючия никак не могла понять, почему все они казались счастливыми. Она выделила три лица, пробудивших в ней наибольший интерес, и сумела разузнать их имена.
Первое принадлежало сестре Терезе – ей было не меньше шестидесяти. Лицо ее хоть и не назовешь красивым, однако присущая ему одухотворенность наделяла его каким-то неземным очарованием. Казалось, она постоянно мысленно улыбалась, словно хранила какой-то чудесный секрет.
Второй монахиней, что привлекла внимание Лючии, оказалась сестра Грасиела – ошеломляюще красивая, лет тридцати, с оливковой кожей, утонченными чертами лица и чудесными глазами, похожими на блестящие черные озера. Она вполне могла бы быть кинозвездой. Интересно, что могло заставить ее похоронить себя в этой дыре?
Третью монахиню, пробудившую интерес Лючии, звали сестра Меган: лет двадцати восьми, голубоглазая, со светлыми бровями и ресницами, она казалась такой свежей и открытой. Что она здесь делает? Что делают здесь все эти женщины? Запертые в стенах монастыря, они довольствовались крошечными кельями и отвратительной едой, молились чуть ли не сутки напролет, подвергали себя тяжелой изнурительной работе и почти не спали. Должно быть, все они лишились рассудка.
Положение Лючии было гораздо лучше, чем у них. Ведь все эти женщины обрекли себя на пребывание здесь до конца жизни, в то время как она через месяц-другой окажется на свободе. Лучше, чем здесь, ей нигде не спрятаться. С ее стороны было бы глупо торопить события. Пройдет время, полиция перестанет ее искать. А как только она выберется отсюда и сможет забрать хранящиеся в Швейцарии деньги, можно даже написать книгу об этом жутком месте.
Несколькими днями ранее мать-настоятельница послала Лючию в свой кабинет за какой-то бумагой, и та решила воспользоваться случаем, чтобы просмотреть хранящиеся там документы, но, к несчастью, была поймана на месте преступления.
«Ты должна искупить свою вину посредством этого кнута», – жестом потребовала настоятельница.
Лючия смиренно опустила голову: «Да, матушка».
Лючия вернулась в свою келью, и несколько минут спустя до слуха проходивших по коридору монахинь донеслись ужасающие звуки хлыста, со свистом рассекавшего воздух. Только вот не знали они, что хлестала сестра Лючия матрас. Может, этим сумасшедшим и доставляет удовольствие себя истязать, но только не ей.
В трапезной они сидели – за двумя длинными столами – по двадцать монахинь за каждым. Цистерцианская еда была строго вегетарианской. Поскольку плоть жаждала мяса, оно было запрещено. Задолго до рассвета сестры выпивали по чашке чая или кофе с сухарями. Основной прием пищи приходился на одиннадцать часов утра и состоял из жидкого супа, небольшого количества овощей и время от времени какого-нибудь фрукта.
Мать Бетина наставляла Лючию: «Мы здесь не для того, чтобы услаждать собственную плоть. Наше призвание – услаждать Господа», – а Лючия думала при этом: «Даже свою кошку я не стала бы кормить ничем подобным».
За два месяца пребывания в монастыре она потеряла не менее десяти фунтов. Прямо-таки санаторий для похудения, только в интерпретации Иисуса.
Когда завтрак заканчивался, две сестры приносили большие лохани для мытья посуды и ставили на край каждого стола. Монахини подходили по очереди со своими тарелками, та, что стояла возле лохани, их мыла, вытирала полотенцем и возвращала хозяйкам. С каждой тарелкой вода становилась все темнее и грязнее.
«И так они собираются прожить до конца дней, – с отвращением думала Лючия. – Ну да ладно: здесь все лучше, чем в тюрьме».
Только вот без курения совсем худо. Казалось, сейчас Лючия готова была за сигарету продать душу дьяволу.
А тем временем в пяти сотнях ярдов от монастыря полковник Рамон Аконья с двумя дюжинами лучших бойцов из Группы специальных операций готовился к штурму.
Глава 4
Полковник Рамон Аконья обладал почти звериным чутьем, любил погоню, но поистине глубокое удовлетворение получал от вида крови, не важно чьей: оленя, кролика или человека. Забирая чью-то жизнь, он чувствовал себя богом и испытывал сильнейший оргазм.
За время службы в военной разведке Аконья заработал себе репутацию блестящего офицера. Он был умен, бесстрашен до безрассудности и безжалостен. Сочетание этих качеств привлекло к нему внимание одного из ближайших соратников генерала Франко.
Аконья присоединился к его армии в чине лейтенанта и менее чем за три года дослужился до звания полковника, что было поистине неслыханно. Его поставили во главе фалангистов – специальной группы, осуществляющей террор в отношении противников Франко, – чему предшествовала краткая беседа с одним из представителей ОПУС МУНДО.
Аконье дали понять, что время от времени его подразделению придется выполнять особые секретные задания, порой очень опасные, о которых никто не должен знать.
За короткое время полковник Аконья выполнил для ОПУС МУНДО с полдюжины особых заданий. Как его и предупреждали, все они оказались очень опасными и секретными.
Выполняя одно из них, Аконья познакомился с очаровательной девушкой из хорошей семьи. До этого момента он привык иметь дело с проститутками или сопровождавшими армейские подразделения шлюхами, которых не считал за людей и обращался с ними соответственно. Если какая-то из них влюблялась в него по-настоящему, очарованная его мужской силой, то с ней он обращался особенно жестоко.
Сюзанна Серредилья принадлежала к другому миру. Дочь профессора Мадридского университета и преуспевающей адвокатессы, в свои семнадцать лет Сюзанна обладала телом взрослой женщины и ангельским ликом Мадонны. Еще никогда Рамон Аконья не встречал таких, как эта женщина-ребенок. Ее трогательная беззащитность пробуждала в нем нежность, хотя, как он думал, это чувство ему не было знакомо. Аконья безумно влюбился, и по каким-то никому не ведомым причинам девушка ответила взаимностью.
Свадьба и медовый месяц пролетели как одно мгновение. Аконье казалось, что до нее он не знал женщин. Ему была знакома похоть, однако еще никогда он не испытывал этого сладкого сочетания любви и страсти.
Через три месяца после свадьбы Сюзанна сообщила ему, что беременна. Радости полковника не было предела. Вдобавок к этому его перевели служить в небольшую деревеньку Кастильбланко в Стране Басков. Это произошло осенью 1936 года, когда противостояние республиканцев и националистов достигло своего пика.
Одним спокойным воскресным утром полковник Аконья с супругой пили кофе на деревенской площади, когда ее внезапно заполонили баскские демонстранты.
– Тебе стоит уйти, – сказал Аконья. – Могут начаться беспорядки.
– А как же ты?
– Прошу тебя. Обо мне не беспокойся.
Демонстранты распалялись все сильнее, и Рамон Аконья с облегчением подумал, что вовремя отправил Сюзанну в ближайшее укрытие – женский монастырь на другой стороне площади. Но как только она подошла к нему, ворота неожиданно распахнулись и на площадь хлынула толпа вооруженных басков, которые прятались за стенами монастыря. Аконья увидел, как жена упала под градом пуль, и зарычал от беспомощности. В тот день он поклялся мстить баскам и церковникам.
И вот теперь, перед штурмом другого женского монастыря, он напомнил себе, что и на сей раз никого не оставит в живых.
А в монастыре, в эти темные предрассветные часы, сестра Тереза, крепко сжимая в руке кнут, стегала себя по спине. Чувствуя, как впиваются в плоть его завязанные в тугие узлы хвосты, она мысленно молила о прощении. Ей хотелось кричать в голос, но поскольку любые звуки были запрещены, она проговаривала про себя: «Прости мне, Иисусе, мои грехи. Видишь, я наказываю себя так же, как истязали Тебя, наношу себе такие же раны, какие нанесли Тебе. Позволь мне страдать, как страдал Ты».
Сестра Тереза едва не потеряла сознание от боли. Еще трижды ударив себя кнутом, изнемогая от страданий, она тяжело опустилась на матрас. Монахиня не стала истязать себя до крови, поскольку это было запрещено. Морщась от боли, причиняемой малейшим движением, сестра Тереза убрала кнут в черный кожаный чехол, стоявший в углу кельи и служивший постоянным напоминанием о том, что за малейший грех последует наказание.
Проступок сестры Терезы заключался в том, что, сворачивая за угол сегодня утром с привычно опущенной головой, она столкнулась с сестрой Грасиелой и, вздрогнув от неожиданности, заглянула ей в лицо. Сестра Тереза немедленно сообщила о своей провинности преподобной Бетине, и та, неодобрительно сдвинув брови, жестом показала, что этот проступок заслуживает наказания. Соединив кончики большого и указательного пальцев и сжав руку в кулак, словно держала в ней рукоять кнута, она трижды провела ею от плеча к плечу.
Лежа на матрасе у себя в келье, сестра Тереза никак не могла выбросить из головы образ невероятно красивой девушки, в лицо которой она так опрометчиво заглянула сегодня утром. Она знала, что никогда в жизни не заговорит с ней и не посмотрит на нее еще раз, ибо любое проявление близости между сестрами сурово наказывалось. Атмосфера строгой морали и аскетизма категорически запрещала какие бы то ни было отношения. Если сестры, работавшие бок о бок, начинали испытывать удовольствие от молчаливого общества друг друга, мать-настоятельница незамедлительно их разъединяла. Сестрам также не разрешалось сидеть за столом с одной и той же соседкой два раза подряд. Теплые отношения между сестрами церковь тактично именовала особенной дружбой. Суровое наказание следовало незамедлительно. Вот и сестра Тереза жестоко поплатилась за то, что нарушила правило.
Раздавшийся в тишине колокольный звон долетел до слуха сестры Терезы словно откуда-то издалека и показался осуждающим гласом Господа. Отзвуки этого колокольного звона нарушили сон и сестры Грасиелы, занимавшей соседнюю келью. Во сне на нее надвигался обнаженный мавр с восставшей от вожделения плотью и протягивал руки, намереваясь схватить ее. Сестра Грасиела открыла глаза. Сердце отчаянно колотилось, а остатки сна точно рукой сняло. В ужасе оглядевшись, она поняла, что находится в келье и совершенно одна, а тишину нарушает лишь ободряющий звон колокола.
Сестра Грасиела опустилась на колени и мысленно взмолилась: «Господи Иисусе, благодарю Тебя за помощь в избавлении от прошлого, за радость пребывания здесь в лучах Твоего света. Позволь мне наслаждаться счастьем Твоего бытия. Помоги мне, возлюбленный мой Иисус, быть верной призванию, дарованному Тобой. Помоги облегчить печаль Твоего святого сердца».
Монахиня поднялась с колен, аккуратно застелила ложе грубым одеялом и присоединилась к остальным сестрам, безмолвно шествовавшим в сторону часовни к утренней молитве. Вдыхая знакомый запах горящих свечей, ощущая под обутыми в сандалии ногами вытертые от времени плиты каменного пола, она постоянно успокаивалась и возвращалась к своему обычному состоянию.
В первые дни своего пребывания в монастыре сестра Грасиела никак не могла уяснить, что значат слова матери-настоятельницы, будто монахиня – это женщина, отказавшаяся от всего, чтобы обрести все. Ей было тогда всего четырнадцать лет, и лишь теперь, семнадцать лет спустя, до нее дошел сакральный смысл этого определения. В своих мыслях она обрела все, ведь именно так ум находил отклик в душе. Теперь дни сестры Грасиелы были наполнены восхитительным умиротворением.
«Спасибо за то, что ниспослал мне забвение, Отец наш Небесный. Спасибо за то, что всегда защищаешь меня. Без Тебя я не смогла бы смотреть в лицо своему ужасному прошлому… Спасибо Тебе… Спасибо…»
Закончив молиться, сестры разошлись по своим кельям, чтобы поспать до следующей утренней молитвы на рассвете.
А за стенами монастыря в темноте быстро и бесшумно передвигались бойцы полковника Рамона Аконьи. Подойдя к воротам, полковник предупредил своих людей:
– Хайме Миро и его смутьяны вооружены, так что глядите в оба.
Он окинул взглядом фасад монастыря, и на мгновение у него перед глазами возникли ворота другого монастыря с выбегавшими баскскими партизанами, и падающая под градом пуль Сюзанна с их нерожденным ребенком.
– Живыми их брать вовсе не обязательно, – добавил полковник жестко.
«Господи, – думала в таких случаях Лючия, – это выглядит так, словно ее одолели вши».
Войдя в часовню, сестры принялись мысленно читать молитвы, только вот Лючия думала совсем о другом: дай бог, через месяц-два полиция перестанет ее искать, и тогда можно будет выбраться из этого дурдома.
После утренней молитвы Лючия отправлялась вслед за остальными монахинями в трапезную, ежедневно нарушая установленные в монастыре правила тем, что тайком рассматривала их лица. Это стало ее единственным развлечением. То обстоятельство, что ни одна из сестер не знала, как выглядят другие, казалось ей просто невероятным.
Лица монахинь ее завораживали. Были среди них старые и молодые, красивые и уродливые. Лючия никак не могла понять, почему все они казались счастливыми. Она выделила три лица, пробудивших в ней наибольший интерес, и сумела разузнать их имена.
Первое принадлежало сестре Терезе – ей было не меньше шестидесяти. Лицо ее хоть и не назовешь красивым, однако присущая ему одухотворенность наделяла его каким-то неземным очарованием. Казалось, она постоянно мысленно улыбалась, словно хранила какой-то чудесный секрет.
Второй монахиней, что привлекла внимание Лючии, оказалась сестра Грасиела – ошеломляюще красивая, лет тридцати, с оливковой кожей, утонченными чертами лица и чудесными глазами, похожими на блестящие черные озера. Она вполне могла бы быть кинозвездой. Интересно, что могло заставить ее похоронить себя в этой дыре?
Третью монахиню, пробудившую интерес Лючии, звали сестра Меган: лет двадцати восьми, голубоглазая, со светлыми бровями и ресницами, она казалась такой свежей и открытой. Что она здесь делает? Что делают здесь все эти женщины? Запертые в стенах монастыря, они довольствовались крошечными кельями и отвратительной едой, молились чуть ли не сутки напролет, подвергали себя тяжелой изнурительной работе и почти не спали. Должно быть, все они лишились рассудка.
Положение Лючии было гораздо лучше, чем у них. Ведь все эти женщины обрекли себя на пребывание здесь до конца жизни, в то время как она через месяц-другой окажется на свободе. Лучше, чем здесь, ей нигде не спрятаться. С ее стороны было бы глупо торопить события. Пройдет время, полиция перестанет ее искать. А как только она выберется отсюда и сможет забрать хранящиеся в Швейцарии деньги, можно даже написать книгу об этом жутком месте.
Несколькими днями ранее мать-настоятельница послала Лючию в свой кабинет за какой-то бумагой, и та решила воспользоваться случаем, чтобы просмотреть хранящиеся там документы, но, к несчастью, была поймана на месте преступления.
«Ты должна искупить свою вину посредством этого кнута», – жестом потребовала настоятельница.
Лючия смиренно опустила голову: «Да, матушка».
Лючия вернулась в свою келью, и несколько минут спустя до слуха проходивших по коридору монахинь донеслись ужасающие звуки хлыста, со свистом рассекавшего воздух. Только вот не знали они, что хлестала сестра Лючия матрас. Может, этим сумасшедшим и доставляет удовольствие себя истязать, но только не ей.
В трапезной они сидели – за двумя длинными столами – по двадцать монахинь за каждым. Цистерцианская еда была строго вегетарианской. Поскольку плоть жаждала мяса, оно было запрещено. Задолго до рассвета сестры выпивали по чашке чая или кофе с сухарями. Основной прием пищи приходился на одиннадцать часов утра и состоял из жидкого супа, небольшого количества овощей и время от времени какого-нибудь фрукта.
Мать Бетина наставляла Лючию: «Мы здесь не для того, чтобы услаждать собственную плоть. Наше призвание – услаждать Господа», – а Лючия думала при этом: «Даже свою кошку я не стала бы кормить ничем подобным».
За два месяца пребывания в монастыре она потеряла не менее десяти фунтов. Прямо-таки санаторий для похудения, только в интерпретации Иисуса.
Когда завтрак заканчивался, две сестры приносили большие лохани для мытья посуды и ставили на край каждого стола. Монахини подходили по очереди со своими тарелками, та, что стояла возле лохани, их мыла, вытирала полотенцем и возвращала хозяйкам. С каждой тарелкой вода становилась все темнее и грязнее.
«И так они собираются прожить до конца дней, – с отвращением думала Лючия. – Ну да ладно: здесь все лучше, чем в тюрьме».
Только вот без курения совсем худо. Казалось, сейчас Лючия готова была за сигарету продать душу дьяволу.
А тем временем в пяти сотнях ярдов от монастыря полковник Рамон Аконья с двумя дюжинами лучших бойцов из Группы специальных операций готовился к штурму.
Глава 4
Полковник Рамон Аконья обладал почти звериным чутьем, любил погоню, но поистине глубокое удовлетворение получал от вида крови, не важно чьей: оленя, кролика или человека. Забирая чью-то жизнь, он чувствовал себя богом и испытывал сильнейший оргазм.
За время службы в военной разведке Аконья заработал себе репутацию блестящего офицера. Он был умен, бесстрашен до безрассудности и безжалостен. Сочетание этих качеств привлекло к нему внимание одного из ближайших соратников генерала Франко.
Аконья присоединился к его армии в чине лейтенанта и менее чем за три года дослужился до звания полковника, что было поистине неслыханно. Его поставили во главе фалангистов – специальной группы, осуществляющей террор в отношении противников Франко, – чему предшествовала краткая беседа с одним из представителей ОПУС МУНДО.
Аконье дали понять, что время от времени его подразделению придется выполнять особые секретные задания, порой очень опасные, о которых никто не должен знать.
За короткое время полковник Аконья выполнил для ОПУС МУНДО с полдюжины особых заданий. Как его и предупреждали, все они оказались очень опасными и секретными.
Выполняя одно из них, Аконья познакомился с очаровательной девушкой из хорошей семьи. До этого момента он привык иметь дело с проститутками или сопровождавшими армейские подразделения шлюхами, которых не считал за людей и обращался с ними соответственно. Если какая-то из них влюблялась в него по-настоящему, очарованная его мужской силой, то с ней он обращался особенно жестоко.
Сюзанна Серредилья принадлежала к другому миру. Дочь профессора Мадридского университета и преуспевающей адвокатессы, в свои семнадцать лет Сюзанна обладала телом взрослой женщины и ангельским ликом Мадонны. Еще никогда Рамон Аконья не встречал таких, как эта женщина-ребенок. Ее трогательная беззащитность пробуждала в нем нежность, хотя, как он думал, это чувство ему не было знакомо. Аконья безумно влюбился, и по каким-то никому не ведомым причинам девушка ответила взаимностью.
Свадьба и медовый месяц пролетели как одно мгновение. Аконье казалось, что до нее он не знал женщин. Ему была знакома похоть, однако еще никогда он не испытывал этого сладкого сочетания любви и страсти.
Через три месяца после свадьбы Сюзанна сообщила ему, что беременна. Радости полковника не было предела. Вдобавок к этому его перевели служить в небольшую деревеньку Кастильбланко в Стране Басков. Это произошло осенью 1936 года, когда противостояние республиканцев и националистов достигло своего пика.
Одним спокойным воскресным утром полковник Аконья с супругой пили кофе на деревенской площади, когда ее внезапно заполонили баскские демонстранты.
– Тебе стоит уйти, – сказал Аконья. – Могут начаться беспорядки.
– А как же ты?
– Прошу тебя. Обо мне не беспокойся.
Демонстранты распалялись все сильнее, и Рамон Аконья с облегчением подумал, что вовремя отправил Сюзанну в ближайшее укрытие – женский монастырь на другой стороне площади. Но как только она подошла к нему, ворота неожиданно распахнулись и на площадь хлынула толпа вооруженных басков, которые прятались за стенами монастыря. Аконья увидел, как жена упала под градом пуль, и зарычал от беспомощности. В тот день он поклялся мстить баскам и церковникам.
И вот теперь, перед штурмом другого женского монастыря, он напомнил себе, что и на сей раз никого не оставит в живых.
А в монастыре, в эти темные предрассветные часы, сестра Тереза, крепко сжимая в руке кнут, стегала себя по спине. Чувствуя, как впиваются в плоть его завязанные в тугие узлы хвосты, она мысленно молила о прощении. Ей хотелось кричать в голос, но поскольку любые звуки были запрещены, она проговаривала про себя: «Прости мне, Иисусе, мои грехи. Видишь, я наказываю себя так же, как истязали Тебя, наношу себе такие же раны, какие нанесли Тебе. Позволь мне страдать, как страдал Ты».
Сестра Тереза едва не потеряла сознание от боли. Еще трижды ударив себя кнутом, изнемогая от страданий, она тяжело опустилась на матрас. Монахиня не стала истязать себя до крови, поскольку это было запрещено. Морщась от боли, причиняемой малейшим движением, сестра Тереза убрала кнут в черный кожаный чехол, стоявший в углу кельи и служивший постоянным напоминанием о том, что за малейший грех последует наказание.
Проступок сестры Терезы заключался в том, что, сворачивая за угол сегодня утром с привычно опущенной головой, она столкнулась с сестрой Грасиелой и, вздрогнув от неожиданности, заглянула ей в лицо. Сестра Тереза немедленно сообщила о своей провинности преподобной Бетине, и та, неодобрительно сдвинув брови, жестом показала, что этот проступок заслуживает наказания. Соединив кончики большого и указательного пальцев и сжав руку в кулак, словно держала в ней рукоять кнута, она трижды провела ею от плеча к плечу.
Лежа на матрасе у себя в келье, сестра Тереза никак не могла выбросить из головы образ невероятно красивой девушки, в лицо которой она так опрометчиво заглянула сегодня утром. Она знала, что никогда в жизни не заговорит с ней и не посмотрит на нее еще раз, ибо любое проявление близости между сестрами сурово наказывалось. Атмосфера строгой морали и аскетизма категорически запрещала какие бы то ни было отношения. Если сестры, работавшие бок о бок, начинали испытывать удовольствие от молчаливого общества друг друга, мать-настоятельница незамедлительно их разъединяла. Сестрам также не разрешалось сидеть за столом с одной и той же соседкой два раза подряд. Теплые отношения между сестрами церковь тактично именовала особенной дружбой. Суровое наказание следовало незамедлительно. Вот и сестра Тереза жестоко поплатилась за то, что нарушила правило.
Раздавшийся в тишине колокольный звон долетел до слуха сестры Терезы словно откуда-то издалека и показался осуждающим гласом Господа. Отзвуки этого колокольного звона нарушили сон и сестры Грасиелы, занимавшей соседнюю келью. Во сне на нее надвигался обнаженный мавр с восставшей от вожделения плотью и протягивал руки, намереваясь схватить ее. Сестра Грасиела открыла глаза. Сердце отчаянно колотилось, а остатки сна точно рукой сняло. В ужасе оглядевшись, она поняла, что находится в келье и совершенно одна, а тишину нарушает лишь ободряющий звон колокола.
Сестра Грасиела опустилась на колени и мысленно взмолилась: «Господи Иисусе, благодарю Тебя за помощь в избавлении от прошлого, за радость пребывания здесь в лучах Твоего света. Позволь мне наслаждаться счастьем Твоего бытия. Помоги мне, возлюбленный мой Иисус, быть верной призванию, дарованному Тобой. Помоги облегчить печаль Твоего святого сердца».
Монахиня поднялась с колен, аккуратно застелила ложе грубым одеялом и присоединилась к остальным сестрам, безмолвно шествовавшим в сторону часовни к утренней молитве. Вдыхая знакомый запах горящих свечей, ощущая под обутыми в сандалии ногами вытертые от времени плиты каменного пола, она постоянно успокаивалась и возвращалась к своему обычному состоянию.
В первые дни своего пребывания в монастыре сестра Грасиела никак не могла уяснить, что значат слова матери-настоятельницы, будто монахиня – это женщина, отказавшаяся от всего, чтобы обрести все. Ей было тогда всего четырнадцать лет, и лишь теперь, семнадцать лет спустя, до нее дошел сакральный смысл этого определения. В своих мыслях она обрела все, ведь именно так ум находил отклик в душе. Теперь дни сестры Грасиелы были наполнены восхитительным умиротворением.
«Спасибо за то, что ниспослал мне забвение, Отец наш Небесный. Спасибо за то, что всегда защищаешь меня. Без Тебя я не смогла бы смотреть в лицо своему ужасному прошлому… Спасибо Тебе… Спасибо…»
Закончив молиться, сестры разошлись по своим кельям, чтобы поспать до следующей утренней молитвы на рассвете.
А за стенами монастыря в темноте быстро и бесшумно передвигались бойцы полковника Рамона Аконьи. Подойдя к воротам, полковник предупредил своих людей:
– Хайме Миро и его смутьяны вооружены, так что глядите в оба.
Он окинул взглядом фасад монастыря, и на мгновение у него перед глазами возникли ворота другого монастыря с выбегавшими баскскими партизанами, и падающая под градом пуль Сюзанна с их нерожденным ребенком.
– Живыми их брать вовсе не обязательно, – добавил полковник жестко.