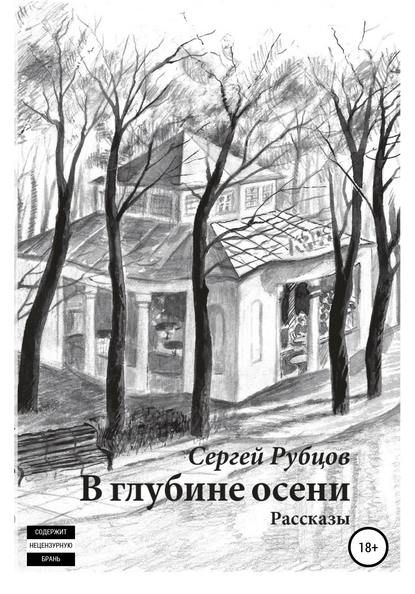По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
В глубине осени. Сборник рассказов
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
После того, как один из соседей пообещал придушить наше юное дарование, его родители решили, что надо что-то делать, пока дело не дошло до увечий, хорошо, если средней тяжести. И вот спасительное решение, хоть и с некоторым опозданием, было принято – Илюшке купили велосипед. Это был не какой-нибудь задрипанный трёхколёсник для сопливых. Это был настоящий «Школьник», с блестящими хромированными спицами и рулём, с багажником и звонком. Став владельцем столь шикарной машины, Илья сразу же забыл о карьере великого певца. И началась новая эпоха. Покой был восстановлен – и двор спокойно вздохнул.
С утра новоявленный владелец транспортного средства выходил с гордым видом во двор, выводя своего железного конька, и мы, дворовые безлошадные босяки, становились в очередь, чтобы прокатиться. Договор был – круг или два по двору. За право оседлать новенький «Школьник» шла постоянная борьба, доходившая иногда до рукопашной. Но со временем накал этой борьбы начал спадать, так как велосипеды стали покупать и другим пацанам. Так что Илюхина «монополия» продлилась недолго.
Не знаю, где теперь живет Илья Эйнгорн. Возможно, в Израиле или в США, но думаю, что занимается он, скорее всего, прокатом автомашин или велосипедов – уж очень это было бы в его духе. Ну, а может быть, я ошибаюсь, и он стал владельцем студии звукозаписи и помогает молодым талантливым певцам. Кто знает?..
Для меня двор был чем-то вроде гавани, продуваемой насквозь всеми ветрами. Отсюда началось моё плавание по житейским бурным морям. Отчаливал под популярную тогда песенку Кобзона «А у нас во дворе есть девчонка одна». И ещё меня не оставляло ощущение праздника, чего-то очень свежего, весеннего. Время чистых надежд и ожидания чуда, первых радостных и печальных открытий.
Мне было восемь лет, когда родители получили новую квартиру, и мы переехали в другой район города. Двор ещё был жив, и я ездил каждые выходные к друзьям. Он не отпускал меня до тех пор, пока через два года наши два дома не снесли. Двор умер, и вместе с ним кончилось моё детство. Остались только старые тополя и берёзы вдоль улицы, да вот эти мои воспоминания.
2. Безукладовка
Похороны
Хоронили Васю Баландина.
Середина февраля. Чувствовалась близость весеннего тепла. Дорога, идущая по центральной, самой длинной улице деревни Безукладовки стала понемногу размокать, прорезаемая чернозёмными бороздами – следами тракторов и грузовиков. Поля, огороды и лощины накрыты ровным и белым. Резкий, влажный пронизывающий ветер так и норовит забраться за воротник, в рукава, за пазуху деревенского прохожего.
Домик Васин – саманная развалюха. Самый неказистый на этом краю улицы. Без забора. Имеет заброшенный, нежилой вид. Да и откуда ему быть жилым, когда Василий, как приехал с семьей десять лет назад с Украины, так ничего в нём и не сделал.
Вася пропал в январе, на Святки. Пошёл в гости к свояченице и не вернулся. Не появился он и наутро. День, другой, третий – нет Василия. Думали, загулялся с дружками. Обошли всю родню, знакомых, собутыльников. Нету. Где искать? Может, где упал, замёрз. Тут как раз в ту ночь, когда он пропал, случился снегопад. По дорогам и тропинкам искали, по которым он мог возвращаться домой. Нигде нет. Пришлось поиски отложить до весны. Но надежда на то, что отыщется, всё ещё оставалась.
Баландины – Вася и жена его, Наташка – оба судимые, а у Василия аж три срока. Всё по воровству. Пили без просыпу, как говорят у нас в деревне, «в тёмную голову». Детишки – дочь Кристинка и сынишка младший, Вовка, по кличке Карандаш – вечно голодные, чумазые, без присмотра. Смотреть больно!
Карандаш с десяти лет начал воровать и убегать из дому. Садился в поезд и айда! Милиция, конечно, искала, находила и возвращала домой. Только ненадолго. Лишили мать, Наташку, родительских прав. Мать Наташкина оформила на себя опекунство. А что толку? Бабка живёт тут же, в доме напротив, через дорогу. Так что дети всё равно постоянно с пьяными родителями, всё видят и слышат: мат, драки, скандалы, грязь.
Васька в пьяном угаре превращался в животное. Пока жена спит пьяная – пристаёт к дочери. Неоднократно Кристинка прибегала к нам ночью по-соседски (они с моей дочкой подружки), жаловалась, что отец к ней «лезет». Оставляли её ночевать у себя.
Нашли Ваську через месяц, случайно. В лощине за деревней. Шёл охотник на лыжах с собакой. Собака почуяла лисий след. Пошла по следу. Охотник за ней. В снегу вроде как нора. Стал охотник разгребать снег и нашёл Васю, вернее то, что от него осталось. Лисица уже успела объесть лицо и кисти рук. Подумали сначала, что шёл он пьяный, упал, замёрз и снегом его засыпало. Милиция дела заводить не стала. Замёрз и замёрз. Но только не всё тут сходилось. Во-первых, даже пьяный Вася вряд ли забрёл бы в эту лощину (она в стороне от деревни), во-вторых – на одежде у замёрзшего человека крови быть не может. Кистей рук не было совсем, как будто они были отрублены: если бы их обглодала лиса, остались бы кости, но не осталось ни косточки.
У Васи была привычка, особенно по пьянке (а пьяный он был почти постоянно), залезть к кому-нибудь и утащить «что плохо лежит». Народ тамбовский, деревенский, у нас, надо сказать, жёсткий, я бы сказал, жестокий народ, особенно мужики. Вот я и думаю, что залез Василий во двор в надежде что-нибудь слямзить и попался. Недолго думая, хозяин взял, да и обрубил татю лапки, чтоб больше не воровал. А тут как раз и снежок в помощь пошёл крупный – отвёз в лощинку и «поминай как звали». Всё на то показывает. А лисица уже потом до него добралась.
Привезли Васю из морга. Поставили в единственной комнатке гроб на два табурета. Вся голова обмотана бинтом, чтобы не пугать провожающих в последний путь (лицо-то съела лисица). Всё чин чином – Рамзес в костюмчике. Только рукава пустые.
Собралась родня, соседи. Мужики заранее пошли на кладбище копать могилку. Вдова, натурально, плачет и причитает, что положено по случаю. День за окном серенький. И такая, братцы мои, от всего этого тоска!
Подогнали грузовик. Погрузили гроб. Сами пошли пешком на кладбище. Вот иду я по раскисшей от мокрого снега вперемешку с чёрной землицей дороге – и на душе такая же муть и слякоть.
Подошли к кладбищу. Оно заметно разрослось за последние годы. Тут недалеко, в старой части, могилка моей бабки Февронии Васильевны. Мужички, искатели цветмета, недавно выдрали из её памятника дюралевый крест. Отец сделал на своём заводе дюралевую тумбу с крестом и привёз из Литвы, где мы тогда жили. Хорошо хоть тумбу с фотографией оставили. По-божески поступили. Крест пришлось заменить деревянным.
Сняли с грузовика гроб. Пронесли, поставили у свежей чернозёмной могилки. Открывать не стали. Речей тоже не было. Так, по-быстрому опустили. Кинули по комку земли. Они падали со стуком на крышку (никогда мне не нравился этот звук). Землекопы шустро закидали яму. Все гуськом, огибая чужие кресты, направились поминать.
Через три года Васина жена, Натали, опилась какой-то гадости. Три дня из неё шла густая бледная пена. На четвёртый она отошла. Карандаш сидит где-то на зоне. Кристинка вышла замуж и, как водится, вскорости родила. Муж попался вроде толковый, непьющий. Девочку назвали Надей. Правда ведь хорошо? Надежда!
Безукладовка
Сергей Тяжин уезжал. Город, в котором он родился и прожил почти сорок лет, вдруг стал чужим. Это, правда, только так говорится, что «вдруг». С момента распада империи прошло пять лет, и все эти годы они с женой мучительно решали, стоит ли уезжать и куда – спорили, ругались.
Инициатором была жена. Тяжин, для которого Lietuva была родиной, мог бы жить здесь и дальше. Но супруга его, Клавдия, корней в этой земле не имела, языка не знала, а после обретения прибалтами независимости и знать не хотела, затаив обиду на московские власти, бросившие, по её мнению, местное русское население на произвол судьбы, в чём, если разобраться, была права. Она явно не собиралась приспосабливаться к изменившимся условиям (как она выражалась, «лизать им жопу», имея в виду националистически настроенные власти) и ежедневно, словно ржа железку, точила мужа и уговаривала переехать в Россию.
Легко сказать, переехать. Тут сразу возникало много разнообразных «pro» и «contra». Одно дело – столица республики и совсем другое тамбовская деревня Безукладовка, по всем статьям – настоящий медвежий угол. Одно название чего стоит! Почему именно туда? Да потому что в начале девяностых, когда стало ясно, что держава рушится, Серёга прикупил на родине отца, в Безукладовке, домик с участком земли. Купил так, «на всякий пожарный», чтобы было куда отступать, если сильно припрёт. Были тогда у него кое-какие деньжата, вот и купил. Дом не особо шикарный, без изысков и с удобствами во дворе, но всё же для жилья пригодный. Тут же рядом огород, яблоньки, вишни, сараюшки-развалюшки для скотины-птицы и прочее, если приложить руки и голову, то жить можно. Руки у Тяжина вроде не из задницы растут – сам много лет в строительстве проработал. Здоровье и силёнки ещё были. Казалось ему по здравому рассуждению – не должны бы пропасть.
Но сомнения, конечно, были.
Семейство Тяжиных небольшое: сам Сергей, жена Клавдия, дочка Анютка двенадцати лет да большой пёс московской сторожевой породы – Филя. Тяжин к земле и сельскому хозяйству отношение имел потустороннее, то есть вовсе никакого. Не было у его родителей в Вильне ни дачки, ни огорода, ни другого земельного имущества. Опыта, естественно, ноль целых. А тут – домик в деревне и хозяйство: хочешь – не хочешь, придётся заводить скотинку. Каково это городскому человеку?!
Всё это как-то мало вязалось с его предыдущей жизнью. Но была в нём жажда к переменам, желание попробовать что-нибудь новое, начать сначала. Что его ждёт в деревне? Вряд ли он тогда мог ответить на этот вопрос. Надежды? Наверное, были. Думалось, что, во всяком случае, там все русские, свои, что если и будет сначала тяжело, то со временем всё наладится и утрясётся. Как именно утрясётся и наладится – он тогда не ведал.
Представления Тяжина о деревенской жизни были смутными. Вспоминались нечастые поездки с отцом в гости к бабке Февронье. Бабка с дедом к тому времени перебрались из Безукладовки в райцентр, а это, как ни крути, всё же не деревня. Помнил, как гоняли с соседями на мотоциклах рыбачить на ближние пруды. Тягали карася. Заходили с бреднем вдоль берега за раками. Тут же у пруда на выездной пасеке обосновался в шалаше какой-то дед. Цвели гречишные поля. Отец угощал деда водкой. Пасечник, подпив, становился добрым, зажигал свой дымарь и, надев на голову сетку от пчёл, словно языческий божок, весь в клубах пахучего дыма, уходил к ульям. Вскоре возвращался, неся в заскорузлых земляных руках миску с большими кусками пчелиных сот, плавающих в густом янтарном сиропе.
Всё вокруг икрилось, горело и зеленело на летнем жарком солнце, исходило запахами, ароматами полевых трав и цветов, цветущей гречихи, пойманной рыбы, душистого мёда и костра. Серёга с наслаждением уписывал соты и складывал тёмно-рыжие пережёванные куски воска обратно в миску: дед не велел выбрасывать – воск шёл обратно в улей, пчёлы использовали его как строительный материал для новых сот.
Образ деревни у Тяжина складывался из таких вот летних воспоминаний. О том же, как живут деревенские жители в другие времена года, в какую непролазную грязь превращаются весной и осенью полевые чернозёмные дороги, как засыпают по горло сельские домики зимние бураны и метели, – он знать не знал.
В общем, Тяжину жизнь тамбовских крестьян была известна не более, чем Миклухо-Маклаю нравы и обычаи папуасов перед его первым путешествием в Новую Гвинею.
По сути, Россия для него была неизвестной таинственной Гипербореей.
Все годы, пока Тяжины решали уезжать или нет, за домом приглядывал Серёгин отец. Он отправлялся туда ранней весной, чтобы успеть засадить огород. Всё лето и часть осени жил там. Собирал урожай, делал заготовки на зиму и возвращался обратно в город.
Жизнь в Литве становилась всё сложнее, и Тяжины, наконец, собрались переезжать. За сборами, оформлением документов, продажей жилья и прочими делами, предшествующими отъезду, прошла осень. Незаметно промелькнул декабрь. Отшумели новогодние праздники. Вещи собраны, упакованы в картонные ящики книги, одежда и прочий хозяйственный дрязг, разобрана мебель – и всё погружено в нанятый микроавтобус.
Поздно предаваться сомнениям. Пора в дорогу!
Решили, что Тяжин поедет с вещами и с Филей, а жена с дочкой чуть позже поездом. Так и покатили: водитель за рулём, Сергей на пассажирском сиденье, а между ними, на полу, на ребристом резиновом коврике, верный друг Филя. Впереди полторы тысячи вёрст пути.
Утром отъехали. Голова у Серёги трещала после прощания с роднёй. Муторно – и на душе скверно. По дороге остановились. Тяжин взял в магазине опохмелиться. До границы с Белоруссией время от времени прикладывался к бутылке, пил малыми глотками горькую, молча глотал слёзы, переживал отъезд, как малое обиженное дитё. А на кого обижался, и сам не знал. Знал только, что расстаётся с родным городом навсегда и что каждый километр снежного пути всё дальше и всё неотвратимее отделяет его от прежней жизни.
Где-то далеко, за тридевять земель, в зимних тамбовских степях, укутанная плотными голубовато-розовыми снегами, спала неприметная деревенька Безукладовка. Она почти вплотную притулилась к райцентру.
В Безукладовке всего одна длинная улица – Центральная, да три коротких. Таких деревень по России десятки тысяч. Казалось, что время здесь как будто остановилось. Это где-то там, в больших городах, жизнь стремительно менялась: кипели революционные страсти, трещала раздираемая на части империя, хищные пронырливые ребята скупали и дербанили госсобственность. Но это только так казалось. Сюда тоже залетели ветры перемен, и для местного крестьянина многое изменилось.
Совхоз «Заря» вдруг превратился в кооператив. Элеватор, хлебозавод, мясокомбинат и всё, что могло приносить хоть какую-то прибыль, скупил частник, в основном московский и тамбовский. Да и местное начальство не дремало: намеренно банкротило и подгребало под себя ослабевшие совхозы и колхозы с удобной плодородной землицей, техникой и дешёвой крестьянской силой. Чиновники поселковой администрации и бывшие председатели колхозов незаметно, но очень скоро превратились в крупных землевладельцев.
Были здесь свои тонкости и хитрости.
Официально сельскохозяйственные земли продавать и покупать нельзя. Закона нет. Вспомнили: ведь у каждого селянина при вступлении в колхоз был земельный пай. Ну, нарисовали и разделили колхозную землю на бумаге. Получила каждая семья, скажем, по 3—5 гектаров земли. А что с ней делать, с землёй? Голыми руками её не обработаешь, а технику, трактора да комбайны ушлое начальство – председатель, главбух и главный агроном – уже прибрало к рукам. Технику, какую списали, а какую скупили по остаточной цене, почти даром. Лошадей в деревне раз-два и обчёлся. Почесали крестьяне репу. Задумались. А доброе начальство, видя такую печаль в народе, и говорит: мол, отдайте нам ваши паи по договору во временное пользование, всё равно вам обрабатывать её нечем, а мы вам за это в конце года зерном, мукой и сахаром отдадим. Крестьяне спрашивают: а сколь же вы положите за пай? Тут начальство нарисовало что-то такое пальцами в воздухе: дескать, не обидим. Подумали бабки-дедки – ни техники, ни сил у них нет. Чего земле пустовать? По паре мешочков того-сего – всё лучше, чем ничего. Куда деваться – согласились.
Вот и получилось, что остался колхозник без земли, без техники и в полной власти теперь уже кооперативного начальства. Только раньше он заплату получал каждый месяц, а теперь один раз в конце года и то, когда продадут урожай, если, конечно, будет тот урожай. Можно было рассчитывать только на личное подсобное хозяйство. Тем и жили.
Народ за пять лет непонятных реформ обозлился. То, что в Москве называли реформами, крестьяне по простоте и честности окрестили так: «полный бардак и трындец».
Как языком слизнуло молочные фермы, откормочные животноводческие комплексы. «Как Мамай прошёл!» Благодаря «мудрой» политике московских властей, которым интереснее было покупать лежалое дешёвое мясо заграницей, колхозам выращивать скотину стало не выгодно. Цены на технику, ГСМ и удобрения взлетели, а на мясо и молоко остались прежними. Естественно, скотину порезали. Хозяйства выживали за счёт полеводства: зерновые, сахарная свёкла, подсолнечник, гречиха, кукуруза.
И раньше-то деревня выпивала, а теперь стали гнать самогон чуть не в каждом доме. Пили не только мужики, но и бабы и даже малые ребятишки. А тут ещё новая напасть: молодёжь стала курить коноплю. Юнцов совращали возвращавшиеся с зон уголовники. Блатные почувствовали вольницу, стали собираться в стаи, прижимать только-только нарождающихся фермеров и предпринимателей, обкладывать их данью, а самые умные из них сами становились «бизнесменами».
Тяжина по дороге развезло на старые дрожжи, но, пока доехали до границы с Белоруссией, он малость оклемался.
Очередь. Литовские пограничники проверяли документы и груз. Сказали, что Филе нужно пройти медосмотр. Тяжин пошёл к ветеринарам – их вагончик стоял тут же, неподалёку от поста. Филя остался в кабине. Сергей показал собачий паспорт и отметки о прививках. Заплатил за осмотр десять долларов и уже собирался пойти за собакой, но ветеринар сказал, что он сам пойдёт и посмотрит. Подошли к машине. Ветеринар открыл дверцу. Филя сидел на своём месте. Увидев незнакомого мужчину в белом халате, пёс злобно зарычал и рявкнул так, что ветврач тут же резко захлопнул дверцу. На этом осмотр закончился.