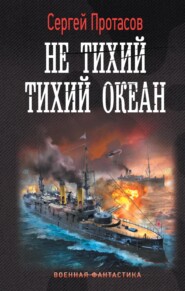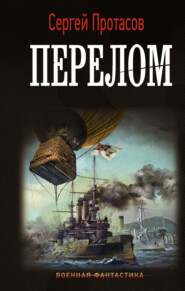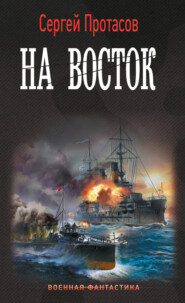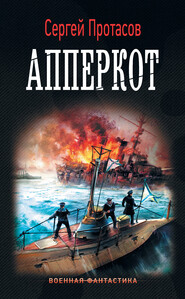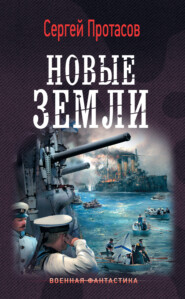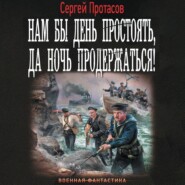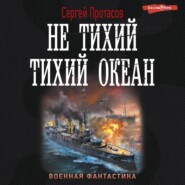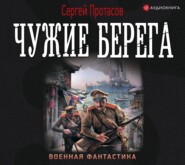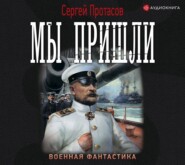По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Нам бы день простоять, да ночь продержаться!
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Совсем скоро этот его «голый зад» открылся во всей красе. Ударивший прямо в такое непотребство луч боевого прожектора со «Светланы», а следом и град снарядов, сначала фугасных, а потом и бронебоев, чтоб засадить поглубже, сразу возымел действие. Кирпичную пыль вперемешку с дымом выбросило из галереи скорострельной батареи, потом из-под купола наблюдательного поста, стоявшего на круговом банкете в стыке позиций. Потом даже сверкнуло огнем, но уже непонятно откуда, поскольку всю центральную часть быстро заволокло тяжелыми клубами.
Однако гаубицы стояли вдоль восточного крыла, более длинного, чем куцее западное, и погром в средней части на них не особо влиял, так что пришлось перенести огонь некоторых пушек, преимущественно трехдюймовок, левее. Разность в высоте бруствера, принципиально улучшавшая защиту орудий с фронта, в данном случае сыграла роль снарядоуловителя.
Но, учитывая небольшой размер, попаданий было не много. До тех пор, пока к волнолому гавани форта не подошли два наших эсминца. Они легли в дрейф прямо за спиной у тяжелых гаубиц и принялись прицельно выбивать дворик за двориком. Никакой качки для них уже не было, так что мишени поражались достаточно эффективно.
Часть еще самых первых залпов с крейсеров, ушедших перелетами по скорострелкам, причинила первые «неудобства» гаубицам. Потом давил на нервы, порою пуская кровь, обстрел крейсеров после осознанного переноса их огня восточнее по фронту. Но только с обстоятельным подходом к делу миноносцев удалось наконец создать достаточно невыносимые условия и для главного калибра японской крепости. После небольшого пожара на позициях тяжелой батареи, сопровождавшегося несколькими фейерверками разлетавшихся от орудий и рвущихся в воздухе неиспользованных боеприпасов, искусственный остров замолчал.
Тем не менее по нему еще продолжали долбить с тыла и с фасада, пока мимо медленно проползали транспорты и главные силы эскадры. А когда колонны флота вторжения скрылись в ночи, и это прекратилось, рядом остался «Донской». Старый крейсер назначили в надзиратели за подавленной батареей, а заодно и брандвахтой на западных подступах к новой импровизированной стоянке.
Он, уже не опасаясь шальных перелетов, подошел к самой отмели за фортом, встав в четырех кабельтовых с севера от него. Хотели подобраться ближе, но – увы! Мели кругом. Горизонт на востоке уже явно серел, тьма отступала. На проступившей из дождливого сумрака плоской скале еще что-то горело. Правда, уже неохотно. Взрывы прекратились, пыль прибило дождем, и никакого шевеления видно не было.
* * *
По всем признакам, выгоревший изнутри первый форт угрозы больше не представлял. Но наблюдатели на осветительных постах и позициях малокалиберных скорострелок, смотревших в пролив, от бомбардировки вряд ли сильно пострадали. Они могли видеть отход группы прикрытия. Поэтому, пока за дождевыми разводами не перестали различать зарницы разрывов и пожаров, сверкавшие в дыму и пыли, а также едва возвышавшийся над волнами холмик недостроя под номером два, украсившийся свежими зазубринами на прямолинейных контурах кирпичных стен, Чухнин придерживался северо-западного курса. Это было не прямо на Йокосуку, что снижало вероятность нарваться на мины, но определенно в том направлении, что должно было ввести в заблуждение противника.
Его флагман «Слава» в этом бою вообще не пострадал, на «Александре III» успешно задавили все внешние очаги горения, так же как и на самом пострадавшем «Александре II», все еще дымившем из-под палубы в корме. Где-то впереди, совсем недалеко, палили из малокалиберных пушек. Но без азарта. Кто там упражняется – не знали и потому нервничали. Как только посчитали, что силуэты броненосцев с пройденных оборонительных рубежей более не видны, сразу повернули на север.
Пару раз рыскнув в обе стороны, чтобы проверить, нет ли погони, вскоре встретились с миноносцами своего прикрытия, все это время оберегавшими их от возможного нападения со стороны совсем близкой японской базы. Мельком обменявшись с ними опознавательными, с удивлением насчитали пять вымпелов охраны, вместо назначенных трех. Убедившись, что двое «приблудных» точно наши, приняли еще больше вправо и дали максимальные обороты на винты, поспешно покидая опасный район.
* * *
Матусевич со своими тремя миноносцами все время боя держался недалеко от первого штурмового отряда. Когда отпала нужда подсвечивать им цели, ушел западнее, чтобы отбивать возможные атаки японских собратьев. Но их не последовало, несмотря на периодически звучавшую подозрительную стрельбу в той стороне. Углядев, что броненосцы прекратили стрельбу, все три эсминца эскорта двинулись к ним, наткнувшись на отставшую пару «Громящий» и «Видный».
Те, будучи уже битыми своими, приближаясь к водам, где только что стихла стрельба, предусмотрительно держали под ходовыми мостиками зажженные приронафтовые фонари, обозначавшие по своду межэскадренных сигналов наличие повреждений и условный запрос о помощи.
Разглядев их слабый свет, с «Безупречного» запросили: «Какая помощь нужна?» В ответ мигнули опознавательные, а фонари сразу погасли. А когда сошлись вплотную, капитан второго ранга Балкашин, командир «Громящего», пожаловался на нечаянную «грубость» «Богатыря», чем и объяснил свое странное поведение. После этого все вместе пошли к броненосцам, чьи силуэты уже угадывались на фоне сереющего востока.
Еще издали показали опознавательные, что уберегло от недоразумений. Чухнин словно только их и ждал. Едва получив доклад о результатах поиска, убедившись, что все пятеро свои, не теряя ни минуты, он вместе с разросшимся эскортом спокойно и организованно двинул на северо-восток.
Занявшего свой пост «Донского» опознали раньше, чем его сигнальщики разглядели приближавшийся отряд в темной западной части горизонта. Сначала решили, что он подбит, и запросили, нужна ли помощь. Но получив успокаивающий ответ, благополучно отошли к Кисарадзу, на всякий случай оставив рядом с крейсером обоих приблудных миноносцев.
* * *
Три эсминца Андржиевского, эпизодически, но безрезультатно участвовавшие в боях этой длинной ночи, к моменту начала схватки с фортами чуть отстали. С началом большой стрельбы метнувшись на свою позицию, появились на поле боя в самый напряженный момент. Сигналом с флагмана их сразу отправили на запад с задачей: «постараться отвлечь внимание от основных сил».
Быстро пройдя позади конвоя и обогнав едва ползший первый штурмовой отряд вместе с приданным ему горящим гвардейским усилением, они скинули обороты до малого, и осторожно пробирались по штормовому заливу примерно в направлении Йокосуки, а потом Иокогамы.
Пока броненосцы и форты мерялись калибрами за их кормой, двигались зигзагом и вели активный поиск дозорных судов и миноносцев противника. Хотя ни одного так и не нашли, периодически открывали стрельбу из своих пушек в воду, выманивая их на себя, но японцев все равно не видели. И это казалось очень странным, учитывая накал совсем недавних атак. Так не должно было быть.
Подобное поведение обороняющейся стороны тревожило начальника отряда все больше и больше. Начинало казаться, что столь примитивную уловку нашего штаба, уже не единожды использовавшуюся ранее, коварные самураи раскусили с самого начала и теперь готовят очередную пакость. Если не отвлекающему и прикрывающему отрядам, то главным силам и конвою, что еще хуже. В любом другом случае хоть какие-то, хотя бы дозорные средства на наиболее вероятном направлении нашего прорыва уже обязательно должны были встретиться.
Напряженно вслушивались в дождь, ожидая атаки или, не дай бог, начала пальбы где-нибудь у себя за спиной. Тем не менее выполнение поставленной задачи не прекращали. Лишь миновав по счислению траверз мыса Нацушимато, милях в трех-четырех от берега, шумную демонстрацию прекратили и, заложив правую циркуляцию, развернулись на восток, начав разгоняться. Все так же настороже, но уже молча, на 12 узлах ушли к светлеющему горизонту, так и не имея контакта с противником.
Глава 6
Японский четвертый отряд истребителей продолжал кружить вокруг русской эскадры, даже после израсходования всех своих торпед. Не имея возможности нанести вред врагу, Кобояси все время провоцировал противника на открытие гоня, чем облегчал его поиск для остальных отрядов.
Когда в дело вступили уже островные форты, располагавшиеся на самом выходе из Ураги в Токийский залив, и мощные пушки мыса Каннон, он решил, что сделал все, что только мог, и приказал отходить в Йокосуку для перезарядки аппаратов. При этом встретили «Араре», потерявшего ход из-за повреждений.
Оставив «Сиракумо» рядом с ним для оказания помощи, с остальными кораблями отряда полным ходом двинулся к маяку Канонзаки. Но там угодил под обстрел с японских же батарей. Суматошный ночной бой был в самом разгаре, так что все палили во всех. Отчаянно сигналя прожектором, пришлось отвернуть и укрыться в ночи.
Отойдя примерно на милю, куда снаряды уже не долетали, снова начали подавать световые сигналы. Так, все время показывая свои позывные, осторожно вернулись к маяку. От него вдоль мыса под самыми фортами пробрались на запад, постоянно работая ратьером, чтобы заранее обозначить себя для всех на артиллерийских и торпедных батареях.
Часто останавливаясь для получения положенного отзыва, миновали проход между берегом и едва торчавшим над водой справа фортом № 3. Стрельба почти стихла. Как всем показалось, слишком быстро для полного разгрома атакующих. Вероятно, их главные силы просто отступили, не выдержав удара. Только разведка, судя по редким хлопкам мелких пушек, продолжала блуждать где-то на северо-западе.
Оставшийся путь до гавани военного порта истребители проделали большим ходом. Еще приближаясь к острову Сару, снова заранее обозначили себя, благодаря чему пальбы не произошло. Уже от острова смогли разглядеть впереди зажженные по их запросу входные навигационные знаки, едва тлевшие, но все же заметные. Ориентируясь по ним, легко проскочили в бухту Йокосука, сразу ошвартовавшись у минного арсенала и приступив к заряжанию опустевших аппаратов. Вне бухты из-за свежей погоды это сделать было бы затруднительно.
Хотя командир четвертого отряда истребителей оказался первым из атаковавших, кто добрался до самой базы, горячие новости, доставленные им, уже успели устареть, а общая ситуация не имела ничего общего с его представлениями о ней. Все потому, что имелось несколько факторов, о которых Кобояси не мог знать до того, как его корабли ошвартовались в гавани.
Во-первых, русские все же прорвались. Во-вторых, они ударили сразу в нескольких местах. Ну и еще кое-что по мелочи, ставшее известным чуть позже.
Оказывается, сегодняшняя атака с самого начала в корне отличалась от всех предыдущих. Одновременно с попыткой форсирования пролива Урага, в безуспешном отражении которой участвовали в том числе и истребители 4-го отряда, в эти ранние часы нападению подверглось и побережье соседнего залива Сагами, где ни военных, ни крупных промышленных объектов не было.
У штаба морского района уже имелись достоверные сведения о появлении большой группы чужих судов у Саконошиты и западнее. Затем они же или уже другой отряд атаковал гарнизон в бухте у деревни Тагоэ недалеко от железнодорожной станции Дзуси на западном берегу полуострова Миура. Но точных данных о том, что там происходит именно сейчас, еще не поступало. Телеграмма из Дзуси получасовой давности, сообщавшая о множестве судов, маневрирующих у входа в гавань, и начале их перестрелки с противодесантными батареями, явно устарела.
Удара по суше оттуда никто не ждал и к отражению большого десанта в заливе Сагами не готовились. Но штормовая погода позволяла надеяться, что высадка как минимум затянется, следовательно, времени для уже начатого подтягивания резервов для отражения еще и этого неожиданного нападения будет достаточно. Небольшие расстояния и наличие железнодорожных путей позволят быстро перебросить войска в атакованные районы. В данный момент пехота, артиллерия и отряды ополченцев из Токатори уже подняты по тревоге и выдвинуты к Тагоэ, чтобы успеть сбить русских в море раньше, чем они успеют «зацепиться» за берег.
Тревоги, по крайней мере во флотских штабах, это направление не вызывало. Гораздо больше беспокоила ситуация прямо под боком. Слишком много оставалось еще непонятного. По всем разработанным планам обороны Токийского залива, противник никак не должен был столь быстро достичь главного оборонительного рубежа. Как такое могло получиться – требовалось срочно выяснить.
Многочисленные сигнальные посты и большинство фортов в условиях дождливой ночи не смогли внести ясность в произошедшее. Они оказались слишком далеко от места основных событий. Все, кроме морского форта № 1 и еще незавершенных искусственных островов с номерами 2 и 3, совсем недавно занятых флотом.
Толком обосноваться на этих островках еще было негде, тем не менее их уже включили в систему обороны. Причем вполне обоснованно. Несмотря на строительный развал, царивший на втором форте, там удалось подготовить торпедный сюрприз, которым перекрыли северную часть прохода, куда с трудом доставали совсем недавно развернутые флотские плавучие торпедные батареи, размещенные в подбрюшье пушечного мыса. А на острове форта № 3, пребывавшем еще в минимальной степени готовности, приготовили сюрприз артиллерийский.
Именно в эти эрзац-укрепления и уперся флот вторжения после того, как невероятно быстро и успешно преодолел все линии заграждений. При этом напыщенные индюки, сидевшие в тепле и сухости в своих укреплениях, залитых толстым слоем бетона, расположенных вдоль пролива Урага, так и не сумели их остановить. Командиры многочисленных батарей крепости Токийского залива даже не снизошли до того, чтобы принять во внимание сведения, добытые с риском для жизни минными отрядами, имевшими непосредственный контакт с противником. Хотя те своевременно докладывали о его перемещениях.
Если бы с самого начала русского прорыва крепость и флот действовали согласованно, простым переносом огня на указанные районы, возможно, удалось бы предотвратить форсирование самого мощного минного поля между мысами Сенда и Миогане, что еще на полпути к главному рубежу обороны у мыса Каннон. Тогда все могло повернуться иначе. Теперь же приходилось признать, что крупное корабельное соединение, понеся серьезные потери, все же смогло прорваться в Токийский залив.
Следующей странностью стал выход на остров строящегося второго форта большого парохода, сразу обозначившего свое место прожекторами. Это произошло примерно в то время, когда русские еще только достигли крепостного минного поля между мысами Фуцу и Каннон, на котором предполагалось дать им главный бой с использованием большей части артиллерийской мощи крепости в сочетании с минным ударом легких сил флота.
Почти сразу этот же пароход осветил ракетами все окрестности. Это вызвало заметное замешательство среди защитников и имело печальные последствия для гарнизона второго форта, в итоге уничтоженного раньше, чем успели применить его грозное оружие. Кроме того, одновременной атаки и массированного артналета не получилось. В полную силу смогли участвовать только островные укрепления. А угодив под все это поочередно, русские смогли отбиться.
После чего предотвратить прорыв действиями одной только артиллерии морского форта № 1, единственного видевшего свои цели, вполне ожидаемо не удалось. В итоге не менее трех десятков океанских транспортов и больших военных судов, правда большей частью поврежденных, охраняемых многочисленными миноносцами, все же прошли сквозь все рубежи обороны в направлении Йокосуки – Иокогамы. Но в окрестностях этих портов они до сих пор не объявились.
Сейчас связь с недостроенными укреплениями № 2 и 3 в проливе, атакованными большими отрядами противника, пропала, а новый мощный форт № 1 у мыса Фуцу оказался окружен вражескими силами, расстрелявшими его мощные бастионы с минимальной дистанции с фронта, фланга и тыла. Батареи получили повреждения и имеют тяжелые потери в расчетах. А русский флот скрылся в дожде и предрассветном сумраке.
После предварительного анализа собранных сведений о противнике командующий военно-морским районом Йокосука вице-адмирала Иноуэ видел два наиболее возможных варианта его дальнейших действий.
Либо он, не теряя времени, с рассветом попытается атаковать Токийскую бухту и саму столицу, практически не прикрытую за главными рубежами обороны. Но это будет иметь чисто пропагандистский эффект и равносильно самоубийству, поскольку штурмовать с моря полуторамиллионный город, который защищает гарнизон и полицейские части вместе с ополчением, дело безнадежное. И десант в Тагоэ тут никак не поможет.
Другой вариант – перегруппироваться и нанести удар по портовым и промышленным объектам Йокосуки и Иокогамы, легко доступным для корабельной артиллерии из залива, что гораздо безопаснее для нападающих и намного перспективнее в военном плане. В этом случае цель высадки войск в заливе Сагами очевидна.
Существовала еще крайне невысокая вероятность того, что русские попытаются сразу же вырваться обратно, пока не пришли в себя оглушенные ими островные форты, не прекратился дождь, закрывший их от пушек мыса Каннон, и снова не перекрыли минами пробитый ими такой высокой ценой проход в заграждениях. Но тогда смысла во всех их действиях не оставалось вообще никакого.
Исходя из всего этого, в штабе морского района Йокосука считали, что в ближайшее время следует ждать начала бомбардировки укреплений, защищающих непосредственно главную базу и расположенный недалеко от нее большой порт, забитый судами с ценными грузами, с возможным штурмом с запада через полуостров Миура. И только после всего этого обратного прорыва. К отражению такого нападения и готовились. Разворачивали дозорные силы для поиска противника, а также начали реализацию остальных пунктов плана оборонительных мероприятий.
Непосредственно в окрестностях морской базы Йокосука чужих кораблей пока не видели, хотя звуки стрельбы еще недавно слышали совсем недалеко. Несмотря на реальную опасность, минный заградитель «Миябара-мару» приступил к установке дополнительного заграждения к северу от острова Сару. Береговые батареи и крепостные минные поля вокруг Йокосуки также привели в повышенную боевую готовность. Оборонительное заграждение перед Иокогамой подключили к источникам тока еще с момента объявления тревоги, а сейчас минзаги, дежурившие в этом порту, под охраной сторожевых судов и катеров, страшно рискуя, ставили дополнительные минные поля южнее линии старых фортов в Токийской бухте. Только так можно было хоть на время задержать возможное нападение и на столичную гавань.
Однако в штабе крепости думали иначе. Там решили, что удар со стороны залива Сагами – отвлекающий, а главной целью вторжения станет именно Токио. Поэтому требовали организовать поиски гораздо севернее намеченных рубежей, чтобы вскрыть боевые порядки нападающих еще на этапе развертывания и нанести по ним упреждающий удар всеми имевшимися силами флота и совсем недавно начавших комплектоваться отрядов «Кокутай».