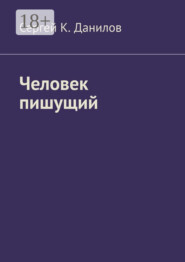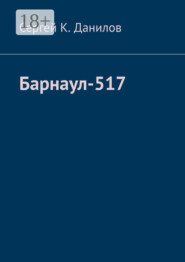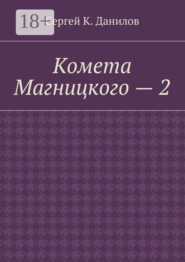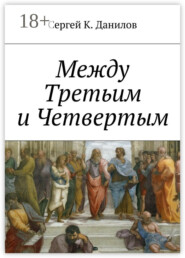По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Сезон нежных чувств
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Пока Рифкат читал, Анна Абрамовна стоически морщилась при неверном произношении неопределенного артикля, местами не сдерживалась, поправляла. Рифкат быстро кивал и говорил по-своему, радостно открывая рот: «Вэ». После двух десятков замечаний Анна Абрамовна уморилась, оставив бесплодные попытки.
– Достаточно, комрид Сабиров. Вэтс инаф. Переводите, что вы прочитали.
– Все?
– Что вы прочитали.
– В смысле? С начала страницы?
– Естественно, комрид Сабиров.
– …Он облизал его губы…
– Как это… Что это такое вы говорите, комрид Сабиров, как грится другое?
– Перевожу с начала страницы.
– Где это вы такое увидели?
Сабиров сосредоточенно поправил очки:
– Как тут написано: хи – это он, по-нашему, смэк – облизал, вот перевод в нижней сноске. Так, значит, дальше хис – его, липс – губы. Получается: он облизал его губы.
– Ну, товарищи, что это такое? Комрид Сабиров, как это он может облизать его губы? Вы себя послушайте только, что вы тут нам такое говорите.
– Запросто может. Вот так, – Сабиров высунул кончик языка и аккуратно провёл по губам.
Ливитина отвернулась к окну, дабы не видеть физиологического надругательства над лексикой.
– Да ну вас, трищ Сабиров. Что вы такое говорите? Почему его губы? А чьи губы он ещё в принципе мог облизать?
– Ну мало ли…
– Что значит – мало ли? Мы про это даже не говорим.
– Надо на девятой странице тогда почитать. Можно?
– О боже, какие глупости вы говорите, комрид Сабиров. Разве так говорят? Он облизал его губы? А?
Рифкат растерянно посмотрел на Мурата, который в полном недоумении тянул себя за уши вверх и пожимал плечами.
– Как грится другое, студенческая группа понимает, о чём идет речь?
Она снова близоруко ткнулась в рапортичку за списком фамилий.
– Комрид Великанова, как вы думаете, может ли он облизать его губы?
– Ну, при желании может, конечно, – краснея, высказалась комсорг, – к примеру, находясь в большом волнении. А вообще надо шире рассмотреть контекст. Или во рту у человека пересохло.
– Комрид Великанова, вы понимаете, что нам тут говорите, как грится другое? В каком таком рту, где вы рот-то узрели? У меня просто слов нет! Комрид Латыпов?
– Может, просто сказать: он поцеловал… ой… то есть…
– Комрид Латыпов, не о том думаете, как грится другое. Комрид Бармин, объясните нам.
– Он облизал губы?
– Уходите от вопроса, комрид Бармин, почему пропустили слово хис? Куда девалось хис? Нет, плохо, плохо. Просто никуда не годно, трищи. Как же мы будем переводить с вами тысячи? Десятки тысяч? Когда вы не можете перевести правильно три простых английских слова? Я просто в ужасе, трищи, как грится другое. Что сделал в данном случае герой произведения «Женщина в белом»? Какие ещё будут варианты, комридс студенты?
Анна Абрамовна вновь принялась разглядывать всех сомневающимися чёрными, навыкат глазами, но сколько-нибудь этичных вариантов перевода трех английских слов ни у кого больше не находилось. Трищи студенты уклончиво отводили глаза в разные стороны.
– Давайте, комрид Сабиров, переводите снова, давайте вместе соберемся с силами и переведём-таки.
– Он облизал…
– Что облизал? Что?
Сабиров ощутимо сжался, боясь выговорить слово, облизнулся, но ничего более не сказал.
– Он облизал… – Анна Абрамовна затаила дыхание, и все тоже затаились, чувствуя кожей, как она снова пересчитала группу. – Ну, как вы не понимаете? Боже праведный, чьи губы мог облизать этот несчастный человек?
– Чьи угодно, – пробормотал Мурат.
– Комрид Стрелкова, вот вы, как девушка, как вы считаете в конце-то концов, чьи губы он облизал?
– Свои, наверное, чьи ещё-то? – обиженно блеснув глазами, заявила Стрелкова, отправляя белокурую прядь за ухо.
– Молодец!!! Ну, наконец-то. Он облизал свои губы! Надо же правильно по-русски говорить, как грится другое. Причём здесь контекст? Надо же правильно по-русски выражаться. Комрид Сабиров, гоу он, читайте дальше, нет, ваш сосед, трищ… Латыпов, продолжайте переводить. Комрид Бармин, успокойтесь, пожалуйста…
– Вот «женщина в пёстром», – сказала Стрелкова, выходя на перемену, – довела народ тремя английскими словами до полной прострации. Я лично чуть в кому не впала. Тяжёлая женщина. Пойдёмте покурим, девочки…
Анна Абрамовна имела почтенное звание старшего преподавателя на кафедре иностранных языков, обожала одеваться в вязанные собственными руками вещи вроде разноцветных шотландских юбочек. Иногда она подолгу задумывалась над каким-то одной ей известным вопросом, делала брови домиком с очень покатой крышей, с какой даже снег счищать не надо – сам сползет под собственным весом, и смотрела при этом в окно. Так могло продолжаться долго. Группа её не тревожила, тихо отдыхая и не проказничая. Очнувшись, она говорила: «Стойте, стойте, комрид Бармин! Чего это вы вдруг пропустили строчку?» Все студенты полагали, что адаптированное произведение «Женщина в белом» Ливитина знает наизусть. Ей не надо даже смотреть в книгу. Не зря же ее прозвали «женщиной в пёстром».
Со временем, привыкнув к студентам, как к хорошим знакомым, она начинала рассказывать им про свою жизнь. С Анной Абрамовной жила престарелая мама и двое племянников-студентов. Эти племянники вечно попадали в разные истории. Когда она делилась очередной вестью из жизни племянников, её чёрные, будто крупная смородина, глаза становились почти трагическими, и поистине удивительным было то, что в конце концов дело завершалось смешным анекдотом. Тут Анна Абрамовна вместе со всеми широко открывала рот и долго не закрывала его, приглашая всех посмеяться вместе с ней.
С октября Ливитина влезала в свою искусственную шубу под леопарда и шапочку, похожую на летающую тарелку, отороченную по периметру крыла мехом неизвестного зверя, а сверху – чёрной смушкой. В подобной одежде можно было выживать до минус пятнадцати, существовать до минус двадцати, и посему, когда столбик термометра падал ниже сорока градусов, старший преподаватель кафедры иностранных языков Анна Абрамовна выпадала из замороженного троллейбуса на остановке «Университет» с мёрзлым треском, напоминающим тот, что издают хранящиеся на морозе дрова, охапку которых хозяйка вносит в избу и бросает у печи. При этом у неё было совершенно фиолетовое лицо и голубые губы, смёрзшиеся в ровную льдинку. Не только её собственные студенты, а совершенно посторонние люди торопливо отводили в сторону взгляды, когда видели сию ужасающую картину. Анна Абрамовна физически не переносила морозов.
О чём она молчит декабрьским поздним вечером на последней паре занятий, замерев, как на сеансе медитации, и глядя в окно, затянутое слоем льда приблизительно в палец толщиной, которое растает не ранее середины апреля, можно только гадать.
Однажды перед самым Новым годом, когда группа сдавала тысячи по инфинитезимальным исчислениям и Стрелкова монотонно, как пономарь, читала размышления Лейбница о природе этих чисел по-английски, а Сабиров и Юрик пальцами тыкали в книжки, следя за её беглым рысканьем по строкам, Анна Абрамовна как раз витала в густых облаках мечтаний. Из двух плафонов на четырёхметровой высоты потолке горел только один. Стоял холодный полумрак. Вдруг она оторвала взгляд от окна и сказала удивительно горячо:
– Сейчас на Средиземном море плюс двадцать, представляете? – и тут же проснулась: – Достаточно, вэтс энаф, комрид Сабиров, переведите, пожалуйста.
Все вздохнули с пониманием. Бедная, бедная Анна Абрамовна. Она мечтала о тепле, о море, о горячем песочке пляжа и кресле в теньке пальмы рядом с голубым бассейном. Короче, обо всем том, чего нет и никогда не будет в её жизни в Борисове. Рифкат сощурился, чтобы лучше видеть в сумерках плохого освещения, надвинул пальцем очки на брови:
– Здорово, – сказал он помолчав, – вот бы туда скататься по профсоюзной путевке под Новый год.
– Переводи уж лучше, – толкнул его под локоть Латыпов.