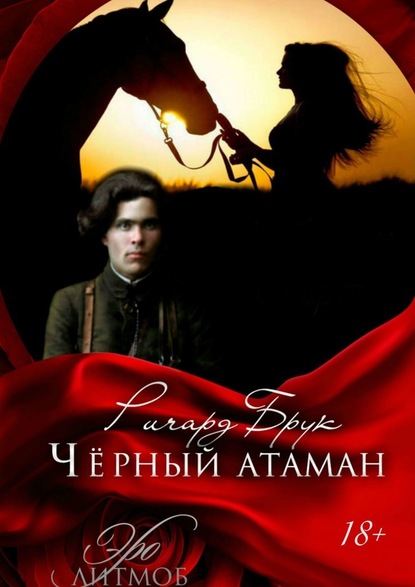По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Чёрный атаман. История малоросского Робин Гуда и его леди Марианн
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– В Москве сейчас с едой совсем плохо, нет там ни сметаны, ни вареников… – вздохнула Саша, в глубине души надеясь, что Дуняша переключится на обсуждение трудных времен и оставит щекотливую тему, перестанет к месту и не к месту упоминать «его». Но не тут-то было.
– Так и я про шо – выходит, свезло тебе, шо наши хлопцы паровоз-то остановили! Здеся, в Гуляйполе, хоть подкормишься… Ты када в непритомности плюхнулась, як трусиха, глазами-то закатилась, тоби ж сперва хотели к Федосу везти вместе с другими, я насилу отбила – казала, шо ты анархыстка, учителка, нарочно с Москвы своей до батька Махна идешь…
– Спасибо тебе. – Дуня, сама того не зная, ответила на давно мучивший Сашу вопрос – почему она вообще оказалась не просто в Гуляйполе, а в доме самого Махно?
– Та уж есть за шо! Федос – он, конечно, красунчик, спору нет, но без башки совсем, а как выпьет, то и вовсе дурной становится!
– А… а… Нестор? – спросила и покраснела, обнаружив столь явный интерес, но не спросить было выше сил.
– Шо Нестор?
– Он… тоже дурной?..
– Та ни! Он, почитай, и не пьет почти, в поравнении с иншими хлопцами! Тай Галя не одобряет, не любит вона, когда атаман в подпитии.
Опять эта Галя… вероятно, Махно сейчас с ней – время позднее, анархистский праздник давно затих, все разбрелись кто куда – ну так и где же быть мужу, как не возле жены?.. Наверное, минувшей ночью он тоже пошел к своей Гале, пошел прямо от нее, случайной любовницы, а с ней даже не переспал – поимел, как съел миску вареников в придорожной корчме.
Вареники вдруг показались тошнотворными, как и вся остальная снедь на столе, чересчур богатом для двух женщин, Саша положила спичку и отодвинула миску.
– Ты шо это? – насторожилась Дуня.
– Ничего.
– Та я уж бачу, шо «ничого»! Ой, а чого глаза-то у нас на мокром месте?.. Дааа, присушил тебя наш батька атаман, как есть присушил!
Присушил. Это было точное слово, до сердечной боли точное. Присушил… именно так она себя и чувствовала. Вспомнился вдруг колдун из «Страшной мести»[11 - «Страшная месть» – повесть Н.В.Гоголя из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки».], которого она боялась в детстве, и несчастная Катерина, чья жизнь закончилась так плохо; Саша воспротивилась – в который уже раз – и словам Дуняши, и собственному сердцу, и телу, что бесстыдно томилось в сладкой тоске:
– Это не из-за него!.. Отстань ты уже со своим атаманом, Бога ради, на вашем Несторе Ивановиче свет клином не сошелся!
– Чегось-чегось гутарите, Ляксандра Николаевна? – бухнул вдруг с порога веселый и громкий, хмельной голос. – На кому це свит клином не сошевся?
В хату без приглашения завалился Щусь, неизвестно откуда взявшийся – подкрался, как вороватый кот на мягких лапах, да и прянул на зазевавшихся мышей. Вместо папахи на нем была бескозырка с надписью «Иоанн Златоуст», гусарский мундир распахнут на груди, из-под него торчала тельняшка, в руках Федос держал гитару и белую коробочку, перевязанную розовой лентой.
Дуняша встала ему навстречу, вроде как недовольная, но Саша-то видела, что насмешливая болтушка мигом преобразилась в ласковую кошку, только что не замурлыкала:
– Аййй, Федос, вот тоби только и не хватало на мою голову! Нешто звалы тебя?..
– А то не? Товарищ Щусь как вольный анархыст везде у себя дома, и везде ему рады! – оскалился «красунчик» и метнул взглядом на затаившуюся Сашу. Сразу захотелось поглубже закутаться в шаль, прикрыть шею и грудь, отвернуться, чтобы не пялился…
– Чой-то у тя там? – Дуня потянулась к перевязанной коробочке, он сразу не отдал, поднял над головой:
– Та ось гостинчика принес, цукерки французские, а мож, немецкие, пес их разберет!.. Товарищи анархысты, прибывшие с Катеринославу, презентовали на вечерю…
Услышав про Екатеринослав, Саша встрепенулась, в душе воскресла надежда – как знать, вдруг она сумеет вытянуть у Щуся какие-нибудь полезные сведения, может, он назовет ей «товарищей из Екатеринослава», и получится через них передать весточку сестре?
Федос по-прежнему казался ей опасным – Дуня справедливо назвала его «дурным» – но все же не таким опасным, как трезвенница Галина Андреевна; к этому парню, шумному, развязному, скорому на все поступки, можно и нужно было поискать подход. Да и положение Щусь занимал видное, командовал собственным отрядом, а значит, распоряжался лошадьми, и мог дать людей в сопровождение. Не зря же Сева рекомендовал его как «правую руку Махно», и нетонко намекал, что с Федосом нужно считаться, и лучше даже – дружить… Ох, только бы не перехитрить саму себя, не получить от такой «дружбы» куда больше, чем нужно.
Дуня тем временем отняла у Щуся коробку – сменяла на смачный поцелуй, и, вырвавшись из объятий, с красными щеками, хихикая, побежала за самоваром:
– А ось мы зараз чайку изопьем, да с цукерками хранцузскими!..
Федос плюхнулся на лавку напротив Саши, вроде бы не глядя на нее, начал настраивать гитару, что-то мурлыкал себе под нос, а потом резко ударил по струнам и запел:
– Анархыя-мама сынов своих любит,
Анархыя-мама не продаст!
Свинцовым огнем врага приголубит,
Анархыя-мама -за нас! – и дальше в таком духе, куплетов пять-шесть. Голос у него был прекрасный, приятного тембра, но очень уж громкий, так что и не пел товарищ Щусь, а, как сказал бы Сашин учитель музыки – горланил…
Она вежливо терпела, не морщила нос, даже пару раз одобрительно улыбнулась, словно ей нравился бравурный военный марш в таком необычном исполнении. Федос умолк, переводя дыхание, ухватил из миски вареник, макнул в сметану, засунул в рот, прижмурился от удовольствия:
– Уххх, смачно! – облизал пальцы, и снова взялся за гитару.
На сей раз из-под его пальцев полилось что-то более мелодичное и печальное, мгновенно отозвавшееся в сердце Саши острой тоской… и воспоминанием… ночь, темнота, табак и горячая степь, свирепые синие глаза, ласковые руки… а уж когда Федос затянул:
– Ой, чей-то кинь стоит,
Що сива гривонька.
Сподобалась менi,
Сподобалась менi
Тая дiвчинонька… – узнала и песню, что звучала вчера под окном горницы.
«Присушил…»
Дуня принесла чай, разлила, присела рядом с Щусем, подперев голову рукой и вроде даже пригорюнившись, слушала про коня, дивчину и доброго молодца.
Когда он допел и длинно, нежно, со значением взглянул на Сашу, та смогла только похлопать ладонью о ладонь, изображая аплодисменты… Он фыркнул недовольно, потряс головой, как жеребец:
– Та вы чегой, Ляксандра Николавна, думати, я тут пред вами как в тиятре або в кабаке выступаю?.. Куплетист, да? Промежду прочим, я людына вильна, и спиваю токмо для щастя и радости, как птица поет! Уразумела, панночка?..
– Простите меня, товарищ Щусь, я вовсе не хотела вас обидеть. У вас прекрасный голос… и… репертуар.
– Чегось? – Федос повеселел, когда она похвалила его голос, но слово «репертуар» было незнакомым, и он снова насупил брови.
– Вы поете хорошие песни.
– Для тебя, миж иншим, и спиваю, панночка! А ты сидишь, эвона, точно жабу проглотила!
Дуня ткнула его в бок:
– Оставь ты барышню, Федос, ей-Богу! Вишь, она и так сама не своя… – и что-то прошептала на ухо, хихикнула, Щусь же глупо и сально ухмыльнулся:
– Эвона как… чого ж видразу не сказала про таку справу? Я б тады краще частивки заспивав! – и снова ударил по струнам: