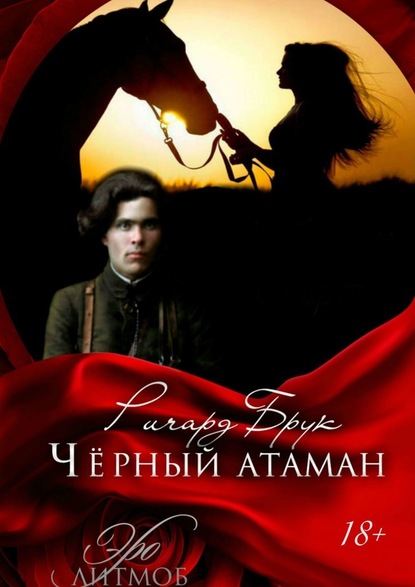По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Чёрный атаман. История малоросского Робин Гуда и его леди Марианн
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Эх, яблочко
Да ты моченое-
Едет батька Махно,
Знамя черное!
Ох, яблочко
Да на тарелочке,
Не ухлопали б меня
В перестрелочке!
Анархыст молодой,
Зачем женишься?
Придет батька Махно-
Куда денешься?
Щеки Саши запылали, как маков цвет, она уткнулась в свой стакан с чаем, как еврей в Тору, Щусь же, перемигнувшись с Дуняшей, продолжал, как ни в чем не бывало:
– Эх, яблочко,
Сбоку зелено,
Мне таким как ты
Давать не велено!
Оборвал сам себя, шумно глотнул чаю, бросил в рот «цукерку», сжевал и подмигнул:
– Не велено, так ведь, панночка?.. Або сама не хошь?..
До Саши наконец-то дошло, что все эти гастроли в ее честь затеяны неспроста, и Дуня с Щусем, отлично спевшиеся и понимавшие друг друга с полуслова, просто издеваются над ней… то ли со скуки, то ли просто выживают ее из комнаты, чтобы остаться наедине. Недоумевая, почему Дуня не сказала сразу, что у нее просто-напросто любовное свидание – она и сама была рада-радешенька убраться подальше от «вольного анархыста» – Саша встала из-за стола, поблагодарила «за ужин и прекрасно проведенное время», и пожелала обоим спокойной ночи. Пожелала от души.
Сна у нее не было ни в одном глазу, но темная тишина и мягкая подушка вчерашней спальни казались сейчас куда более желанным пристанищем, чем импровизированная «гостиная» и музыкальный салон с романсами и частушками…
Первый день в Гуляй Поле дался ей нелегко, и нужно было обо всем подумать… что-то придумать, решить… и, может быть, тогда получится заснуть, и не прислушиваться отчаянно к каждому шороху за окном, гадая – он или не он? – и не чувствовать тупой горячей иглы, застрявшей в сердце, и сладкой ноющей боли внизу живота.
***
…Войдя в горницу, Саша затворила за собой дверь и заложила засов – к счастью, он был. В полной темноте (ставни на окнах были закрыты снаружи) повернулась, чтобы ощупью пробраться к столу и зажечь лампу, и тут же почуяла, что не одна. Смешанный запах табака, пороха, горячей степи и острого мужского желания – она уже не могла его спутать ни с каким другим.
«Нестор!..»
Он налетел сзади, бесшумно, неистово, как хищная степная птица на беспечную добычу, схватил в объятия, слегка подтолкнул, опрокинул на кровать, и не на спину – на четвереньки… Придвинулся вплотную, обхватил еще крепче, руки сжимают грудь, на ухо – шепот, жаркий, безумный:
– Любушка, пусти до себя… Целый день только про то и думал, только тебя и ждал…
Саша потеряла голос и дыхание, сама прижалась к нему, как смогла, подставилась течной кошкой, пошире развела бедра… ни о чем не думала, ничего не стыдилась, оглушенная страстью и счастьем. Задрожала, когда он смял и поднял на ней юбки, нетерпеливо спустил белье, просунул руку в тесную щель – и пальцами утонул в женском соке, зарычал:
– Чую, кохана, ждала меня!
– Да… да!.. – выдохнула, признаваясь, приняла в себя глубже, сжалась: не было сил терпеть, но тут он убрал пальцы. – Нестор!..
– Тихише, любушка… вот он я!
Вошел сразу, на всю длину, до самого корня, да еще и обнял крепко-накрепко, одной рукой за грудь, другой – под самым животом. Не сдержался, застонал:
– Ааааа… тесная ты!.. Саша, любушка моя…
В ней он был горячий, твердый как камень и такой большой, что, казалось, не должен поместиться – но помещался, и она уже не боялась, принимала снова, и снова, и наслаждение нарастало с каждым его яростным толчком. А рука Нестора у нее под животом скользила вверх-вниз, в одном ритме с членом, и заставляла истекать сладостной, ненасытной болью…
Он дышал рвано, хрипло, захлебывался короткими стонами, целовал Сашу все жарче, ласкал бесстыдно, и она, насаживаясь на него, забывшись, потерявшись в безумном удовольствии, неизведанном ранее, снова и снова шептала его странное, колдовское имя -до слез, до полуобморока…
…Очнулась не зная когда, уткнувшись лицом в подушку, по-прежнему в его объятиях; он лежал на ней, прижавшись всем телом, гладил плечи, целовал шею… она чувствовала, как по бедрам стекают теплые капли его семени, и запоздало подумала, что глупо и неосторожно отдается ему вся – словно он муж, венчанный с ней перед Богом. Но венчали их только месяц, ясный, холодный, что смотрел в окно, да гитара, нахально бренчавшая за стеной…
Нестор задышал спокойнее, глубже, сердце приглушило барабанный бой, застучало размеренно, ровно. Атаман задремал, и Сашу саму повело в нежную истому. Хотелось закрыть глаза, провалиться поглубже в уютный сон, в стальном кольце Несторовых рук, под защитой его тела – худого, но крепкого, точно кнутовище из сыромятной кожи.
Кости точно истаяли, превратились в желе, но едва она слабо пошевелилась, чтобы перелечь, он сразу вскинулся:
– Куда, голубка? Ще ночь. Поспи со мною трохи.
Рассудок нашептывал, что пора бы протрезветь, очнуться от наваждения, и если уж не прогнать Махно прочь (он здесь был хозяином, а она лишь пленницей), то хотя бы встать, раздеться, помыться… и отыскать свои вещи, с утра отобранные Дуняшей. Но как встанешь, пока он так держит?.. Попроситься по нужде?.. Наверное, тогда отпустит, но у нее язык не повернулся, несмотря на то, что любые игры в женскую стыдливость теперь выглядели глупейшим жеманством.
Нестор точно мысли ее прочитал, хмыкнул, ослабил хватку, скатился с нее, перелег на спину, вытянулся:
– Тебе, може, треба куда? Так иди, якщо треба…
Саша неопределенно покачала головой – полученное дозволение могло еще и пригодиться – и решилась спросить:
– А… вам… вам, Нестор Иванович, уходить не пора? Поздно ведь…
Рука с жилистым запястьем, прикрывавшая зевок, замерла, опустилась… по губам Махно скользнула не то усмешка, не то гримаса:
– Вот те на… Гонишь меня, любушка, або що?
– Я не гоню… – на всякий случай пояснила Саша, и тут же не стерпела, вспыхнула от обиды, накопившейся за день, и – как снежок в лицо метнула:
– Вас, наверное, супруга ждет-не дождется… ищет повсюду, переживает, а вы здесь.
Она ждала, что он рявкнет в ответ, и хорошо, если за косу не схватит, за то, что посмела всуе помянуть «морганатическую», но Махно только проворчал:
– Яка ще «супруга», не разумею? – с таким удивлением, словно и вправду «не разумел».