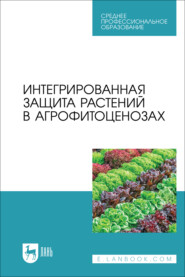По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Киномысль русского зарубежья (1918–1931)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Это – в области красок.
Но и вообще кинематографу не должно быть никакого дела до живописи. Как бы ни напрягались кубисты и футуристы в своем стремлении передать на холсте стихию движения, картина остается картиной, то есть неподвижностью, остановившимся мгновением, запечатленным мигом.
И в тех же враждебных отношениях кинематограф стоит и к театру.
Нет большей ошибки, чем утверждение, будто театральная и кинематографическая сцены родственны. В них нет никаких общих корней. Театр – одно. Кинематограф – другое. У них – разные задачи и разный материал. Всегда театр знал не только метроном, но и камертон. Каждая пьеса имеет свой музыкальный ключ. В этом – одна из самых великих тайн театрального воздействия.
Но, конечно, никакого камертона не было у кинематографа, нет, и не может быть.
То, что в кинематографических съемках участвует драматический актер, – всего только недоразумение и ошибка.
Это происходит единственно от актерской нищеты кинематографа.
И до сих пор он не выковал, не воспитал, не подготовил для себя нужного артистического материала. У него нет исполнителя. Кинематограф приходит в театр за подаянием. Ему его и бросают. Драматический актер становится в позу пред аппаратом, его снимают, фильма готова, мы идем в кинематограф и разводим руками:
– Почему? Зачем? При чем тут драматический актер? Кому это понадобилось?
Точно так же совершенно неправильна мысль, будто кинематографу суждено заменить театр. Это – абсолютно вредное и самое нелепое заблуждение.
Конечно, и тут может быть допущен суррогат. Но точно так же, как испеченная дубовая кора никогда не вытеснит хлеб, так и кинематограф бессилен изгнать из жизни театр.
Если в этих утверждениях и есть какая-то частица правды, то она заключается в одном: верно, что какие-то ткани в современном театре разрушаются и сгнивают, истлевают какие-то личины, театр отстает от жизни, и современный зритель перерос свой театр.
Но этот недуг найдет своего целителя отнюдь не в кинематографическом экране. Это так же глупо предполагать, как проводить знак равенства между плоскостью и пространством, между одним измерением и тремя, между живым человеческим телом и мертвым снимком, между речью и безмолвием.
Самая отчаянная, самая нелепая, самая дикая сторона кинематографических представлений заключается в том, что они повсюду сопровождаются еще и музыкой. Это уже – вне всякой логики и вне всякого смысла.
5
У кинематографа – свои особые задачи, цели и материал.
Трагедия кинематографа в том, что он сам не знает, зачем он пришел в мир.
Чтобы оправдать смысл этого новорожденного чудовища, сейчас ломают себе головы теоретики искусства, философы, критики, художники. И ответы получаются самые разнообразные и неожиданные. Не стоит перетряхивать эту литературу, хотя бы ввиду ее громоздкости. Но ясно для всех: стихия кинематографа – движение. Во что бы то ни стало ему необходимо нажить своего собственного актера, найти свой собственный путь и свое место в ряду искусств, если только допустить, что он сам может стать искусством и растет из одного общего с ним корня.
Очень возможно, что кинематографу придется пережить период исключительного актерского своеволия. Сейчас ему необходим актер-творец, самодовлеющий кинематографический исполнитель, актер-выдумщик, актер, какого создала эпоха Commedia dell’ arte, и этот будущий кинематографический актер должен отдать себя всецело виртуозности движения.
Единственно и только!
Вот если кинематограф станет на эту дорогу, если он выкристаллизует такого исполнителя, из этого исполнителя создаст автора, тогда – и только тогда – мы будем вправе утверждать, что и у кинематографа есть своя жизнь и свой особый смысл существования. Этот актер, его искусство будут исполнены гимнастической виртуозности, сценической стремительности, электрической подвижности, поражающей и молниеносной внезапности.
Это – единственная дорога кинематографа в будущее. Все остальное надо забыть и выбросить!
6
Сейчас же кинематограф проделывает какую-то несусветную чепуху.
Вдруг король американских свиноводов отдал бы приказ:
– Отныне надо выращивать и культивировать только очень рысистых свиней!
Конечно, можно добиться и этого. И действительно, через несколько лет, облегченная в своем весе, освобожденная от жиров, тощая свинья и в самом деле побежит довольно крупной рысью.
Спрашивается:
– Кому и зачем это нужно?
Вообразите далее, что кому-нибудь придет в голову мысль сделать курицу поющей птицей, а канарейку заставить нести яйца!
В конце концов, возможно и это. Но не странно ли и не глупо ли прививать свинье лошадиные качества и вырабатывать поющую курицу?
Я искренне думаю, что это – глупо, смешно и напрасно.
Теперь вы уже знаете, с каким чувством я сижу в кинематографе. Я сижу там, смотрю, думаю и понимаю только одно: до какой степени несчастен современный кинематограф!
Сейчас он похож на человека, которого сознательно и настойчиво заставляют жить. Каким способом? Очень страшным! Чтобы продлить его дни – представьте себе – его стараются заразить всеми болезнями его соседей!
И в самом деле, разве это не зараза для кинематографа – эти яды литературы, живописи, музыки, театра?
Ответ – короток:
– Истинная зараза! Истинная и притом смертельная!
Печатается по: Последние известия (Ревель). 1923. 22 апр.
Петр Пильский КИНЕМАТОГРАФ И ЕГО АКТЕР
1
Недели три тому назад я написал статью о кинематографе. Я хотел рассказать, как я его понимаю.
Я утверждал, что:
1. Кинематограф ничего общего не имеет с литературой.
2. Точно так же у него нет ничего общего с живописью.
3. Он абсолютно не музыкален и не ритмичен.
4. У кинематографа свои собственные задачи, цели и материал.
5. Смысл и достижения кинематографа заключаются единственно в действии, динамике, в трюках.
6. Поэтому его актер должен отдать себя всецело виртуозности движения.
7. Кинематографический актер ничего общего не имеет с актером театра.
8. И сам кинематограф, в своем существе, является полной и совершенной противоположностью театра.