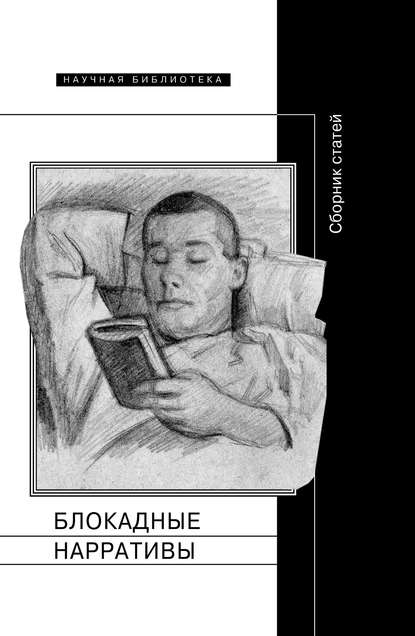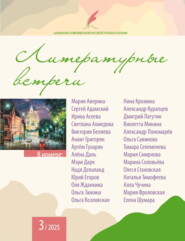По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Блокадные нарративы (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Другой пример антагониста – Анатолий Валицкий из романа «Блокада» Чаковского. В романе он сын знаменитого архитектора, который в трудную минуту бросает на произвол врага свою подругу Веру и спасается под предлогом выполнения важного поручения. Учитывая внимание, которое уделяет Чаковский социальному происхождению героев романа, резонно предположить, что социальное происхождение Анатолия также не случайно. Он и его отец, как представители недостаточно преданного партии сословия интеллигенции, противопоставляются в романе трудовому народу – семье рабочего Ковалева. И хотя по ходу развития сюжета отец Анатолия находит счастье в полезном труде на благо народа, четкая линия противостояния между рабочим Ковалевым и интеллигентом Валицким проходит через роман красной нитью.
В «Блокадной книге» Адамовича и Гранина, наоборот, протагонистов представляют в основном люди интеллектуальных профессий, в то время как среди антигероев, способных к безнравственным поступкам, оказываются простолюдины. Гранин писал:
…мы решили показать достоинство Ленинграда как города духовной культуры, она помогла устоять. Интеллигенция в этой эпопее предстала со всеми преимуществами своей душевной силы. Принципы, воспитанные традициями русской интеллигенции, помогли ей не расчеловечиться[100 - Гранин Д. О блокаде // Он же. Тайный знак Петербурга. С. 140–141.].
Аналогичным образом были структурированы нарративы о героях и «антигероях» в исторических монографиях. Как и в художественных произведениях соцреализма, главный герой обязан был встретиться с «антигероем» и победить его. В монографии Дмитрия Павлова «Ленинград в блокаде», написанной в 1958 году и переиздававшейся большими тиражами в СССР в общей сложности шесть раз, в число последних попали заведующая хлебным магазином и ее помощница, которые обвешивали покупателей, а на остававшийся у них хлеб приобретали антиквариат. Правда, автор тут же добавлял, что «ослепленные наживой, они забывали, что находятся хотя и в окруженном лютыми врагами, но в советском городе, где хранят и чтут законы революции. По приговору суда обе преступницы были расстреляны»[101 - Павлов Д. В. Ленинград в блокаде. М., 1958. С. 174.]. Текст этой работы редактировался и исправлялся для каждого нового издания, он сохранил структуру повествования в неизменном виде во всех редакциях, включая и этот эпизод. Дмитрий Павлов в начале блокады был уполномоченным Государственного Комитета Обороны (ГКО) по обеспечению продовольствием Ленинграда и Ленинградского фронта, поэтому основной фокус его исследования был сделан на продовольственном снабжении города. Во время работы над книгой Павлов возглавлял Министерство торговли СССР. В этой работе практически нет ссылок на архивные источники, но при этом приводится большое количество статистических данных, пересказывается ряд документов и важных для понимания решений властей переговоров руководителей, которые впоследствии стали цитироваться в других исследованиях. Той же схемы придерживались и авторы «Непокоренного Ленинграда», когда рассказывали читателям о редких случаях спекуляции продовольствием «неустойчивыми элементами», как правило подталкиваемыми к этой деятельности фашистской разведкой[102 - Непокоренный Ленинград. С. 118.].
Но, естественно, главным антагонистом в произведениях о блокаде выступала немецкая армия. «Сознательность» в данном случае олицетворяла приверженность советских граждан цивилизованному миру, ценностям человеколюбия и гуманизма и верному политическому курсу, в то время как немецкие войска связывались с архаичными силами зла. Так, в поэме Веры Инбер «Пулковский меридиан» враг – образец варварства, который намеренно бомбит госпиталя, музеи, университеты, убивает женщин и давит танками детей, разрушает могилы и уничтожает святыни. Поэтому гуманизмом, к которому призывала Инбер, было уничтожение врага:
От русских сел до чешского вокзала,
От крымских гор до Ливии пустынь,
Чтобы паучья лапа не всползала
На мрамор человеческих святынь,
Избавить мир, планету от чумы —
Вот гуманизм! И гуманисты – мы[103 - Инбер В. Пулковский меридиан. С. 191.].
Отсюда и эпитеты, которыми награждалась вражеская армия не только в художественных произведениях, но и в исторических монографиях: «фашистские полчища», «изверги», «варвары», «разбойники». Например, у Павлова: «Между тем немецкие дивизии, используя превосходство своих сил, вторгались все глубже и глубже в пределы нашей земли, терзая ее гусеницами тяжелых танков»[104 - Павлов Д. В. Ленинград в блокаде. М., 1958. С. 17.].
В большинстве текстов о блокаде, описывающих столкновение «сознательного» и «стихийного», четко прочитывается мысль о пережитых в блокаду испытаниях как коллективной инициации населения города. Согласно этому нарративу, главным из испытаний была первая блокадная зима, показавшая величие духа ленинградцев: люди умирали, но не сдавались и выживали благодаря массовой взаимопомощи. В исторических сочинениях эта мысль иллюстрировалась примерами, почерпнутыми из дневниковых записей ленинградцев, в художественной литературе – с помощью рассказов о героях, которым помогли или которые помогали другим зимой 1941/42 года. Но в каждом советском тексте писали о доброте и отзывчивости блокадных людей. Это мог быть рассказ о соседке, выкупавшей продукты на карточку, о незнакомых или едва знакомых людях, делившихся последним куском хлеба, и т. д. Тема взаимопомощи была чрезвычайно развита и в мемуарах блокадников. В советском тексте ленинградцы не только пережили блокаду, но и перешли в новое состояние – стали лучше и сильнее. Именно об этом говорили все публичные обращения властей к Ленинграду, именно с помощью этого сформировался образ жителя-героя.
Говоря об инициации, необходимо отметить особую функцию, которую в соцреализме играла природа: «В сталинских романах природа обычно является не местом действия, но антагонистом (или метафорическим обозначением антагониста), главным препятствием на пути к сознательности и выполнению задания»[105 - Кларк К. Советский роман. С. 143.]. Тем же смыслом наделялась природа и в сочинениях о блокаде. Лютые морозы и обилие снега первой блокадной зимы описывались как один из центральных мотивов, объясняющих драматическое положение населения, наряду с уменьшением норм выдачи продовольствия, бомбежками и артиллерийскими обстрелами противника. Вот один из характерных примеров такого рассказа:
Наступил ноябрь. Сухие ясные дни октября сменились пасмурными, холодными днями с обильным снегопадом. Земля покрылась толстым слоем снега, на улицах и проспектах образовались сугробы. Морозный ветер гнал снежную пыль в щели землянок, блиндажей, в выбитые окна квартир, больниц, магазинов. Зима установилась ранняя, снежная и морозная. Движение городского транспорта с каждым днем уменьшалось, топливо подходило к концу, жизнь предприятий замирала. Рабочие и служащие, проживавшие в отдаленных районах города, шли на работу пешком несколько километров, пробираясь по глубокому снегу с одного конца города на другой. По окончании трудового дня, усталые, они едва добирались до дому[106 - Павлов Д. В. Ленинград в блокаде. М., 1958. С. 152.].
Итак, сугробы, ветер и зима также играли роль «стихийного» антагониста, противостояние которому помогало герою совершить требуемый от него соцреалистической фабульной схемой переход в новое качество. Природа пытается заморозить жизнь в городе, но сознательность советских людей противостоит этому.
Любопытно, что тот же климатический мотив мог бы быть интерпретирован в текстах о блокаде совершенно иначе: благодаря морозу стало возможно организовать подвоз продуктов по льду Ладожского озера. И в этом контексте природу можно было бы оценивать как помощника, а не антагониста. Но этого не происходит: мотив противопоставления сознательных человеческих усилий и стихийного сопротивления природы берет верх.
Счастливый конец
Счастливый с точки зрения социалистической перспективы конец был необходимой составляющей картины мира советского человека. Блокада в художественных и публицистических произведениях не просто тяжелое героическое прошлое, но урок для будущих поколений. Поэтому в детской литературе заключительные строки книги нередко адресовались юным читателям, обязанным чтить и помнить героев-ленинградцев. Так, повесть Помозова заканчивалась следующим обращением:
Память соединила вас с ленинградскими ремесленниками блокадной поры. Им, конечно, можно завидовать. Но и они могут завидовать тому, что вы учитесь в мирное время. Цените его! Пусть ваши резцы и фрезы, сверла и наждаки всегда выполняют только мирные заказы[107 - Помозов Ю. Блокадная юность. С. 142.].
В художественной литературе главный герой зачастую погибал, что не меняло общего мажорного финала, так как смерть героя была лишь прологом его символического возрождения в памяти благодарных потомков. В исторических сочинениях эта формула проявилась столь же отчетливо, как и в художественных текстах. Финал историографического нарратива предполагал использование приемов, схожих с уже выработанными в литературе соцреализма и соответствовавших схемам прохождения ритуальных испытаний. Испытание и принесение жертв заканчивалось победой «сознательного» над «стихийным» и обретением социального и исторического статуса, более высокого, чем в начальной ситуации. Поэтому завершение описания блокады необходимо перетекало в рассказ о послевоенном восстановлении города, в котором новый возродившийся Ленинград позитивно противопоставлялся старому довоенному. Как писали авторы коллективной монографии «Непокоренный Ленинград»,
памятники героическим защитникам Ленинграда, всем, кто стоял насмерть у стен города-героя, – не только величественные монументы из бронзы, гранита и мрамора. Памятник им – спасенный город, который, залечив свои раны, стал еще красивее и живет полной жизнью[108 - Непокоренный Ленинград. С. 318.].
Таким образом, советский нарратив о блокаде впитал все риторические и структурные элементы социалистического реализма. Наличие в художественных и исторических текстах главного героя и его старшего наставника, борьба стихийного и сознательного, общественное задание, испытание как инициация, природа как один из главных антагонистов – все эти формальные компоненты определили схему повествования о блокаде в советской культуре, сделав такую интерпретацию предельно понятной и узнаваемой для советского человека. Как в волшебных сказках, анализируемых Владимиром Проппом, повторявших снова и снова одни и те же образы и сюжеты, соцреалистические произведения о войне содержали глубинные смыслы, непосредственно отсылавшие к основам советского мироздания. Извечный положительный герой, с которым из поколения в поколение связывали себя советские читатели, его освободительная благородная миссия и его мудрый наставник – все это переформатировало историческую память настолько, что малейший сдвиг (например, предположение о том, что у блокады не может быть счастливого конца или что герой отнюдь не положительный) мгновенно вызывал недовольство и растерянность. Сомнения, вызванные малейшими изменениями нарративной конструкции, касались не только вопроса о репрезентации блокады, но и могли пошатнуть представления о собственном совершенстве, заложенные в глубинном подсознании коллективного Я. Как это блокадники не герои? Что значит у блокады нет счастливого конца? Отсюда и резкая реакция, которую вызывали и вызывают немногочисленные попытки писать или вспоминать о блокаде в России вопреки сложившемуся соцреалистическому канону. Это проявлялось, например, в жестких высказываниях в адрес зарубежных историков, писавших о блокаде вне ограничивавших их рамок соцреализма, что, правда, совершенно не отменяло того факта, что их работы также строились с учетом собственных, пусть и менее формализованных нарративных конструкций. Однако выход за пределы соцреализма давал им возможность задавать такие вопросы о жизни города и людей, которые казались абсолютно кощунственными с точки зрения советских авторов. Например, Дмитрий Павлов размышлял об этом следующим образом:
…американский историк Леон Гуре в своей объемистой книге «Осада Ленинграда», вышедшей в свет в 1962 году, пишет много о жизни города, о поведении людей. Причем, чтобы ему верили, он делает бесконечное количество сносок на советских авторов, без смущения чередуя правду с грубой ложью и клеветой. Гуре утверждает, что население Ленинграда во время блокады работало, но только потому, чтобы получить продовольственную карточку; дисциплина и порядок в городе соблюдались, но из страха перед властями; в Ленинграде находились люди, готовые сдаться немцам, хотя они и не представляли собой большинства; Ленинград выстоял, но не благодаря стойкости его защитников, а исключительно из-за роковых ошибок Гитлера. И в таком плане этот «историк» преподносит своим читателям беспримерную борьбу ленинградцев. Сознательно искажая правду, он всячески старается принизить бессмертный подвиг Ленинграда. Зачем Гуре понадобилось подменять правду ложью? Цель одна: угодить реакционным силам, скрыть от общественности великое преимущество советского общества, морально-политическую сплоченность его людей; показать, что стоическая борьба советских людей с лютым врагом – фашизмом не есть следствие преданности их своему социалистическому строю, а результат насилия над ними властей[109 - Павлов Д. В. Ленинград в блокаде. М., 1967. С. 155–156.].
В этой фразе автор проговаривает смысл и значение нарративной конструкции соцреализма: «великое преимущество советского общества» – это тот вывод, к которому должен был прийти советский читатель вне зависимости от того, листал ли он роман-эпопею Чаковского, «Блокадную книгу» Гранина и Адамовича или слушал «Февральский дневник» Берггольц. Вероятно, именно поэтому тема войны и блокады, отформатированная советским каноном, всегда так востребована российскими политиками, без устали апеллирующими к достоинствам и героизму предков.
Другая важная мысль, закодированная в нарративной конструкции соцреалистического романа, касается отношения общества и власти. Модель «большой семьи», о которой писала Катарина Кларк, предполагала непререкаемый авторитет Отца, воплощавшего собой саму власть, и сына – как младшего, еще несознательного персонажа, роль которого отводилась советскому обществу. От того, насколько «сын» был послушен и внимателен к советам «отца», зависел исход дела. Даже если «отец» порой был излишне резок или допускал промахи (вспомним приведенные выше описания Сталина в романе Чаковского или характеристику ленинградских руководителей в «Блокадной книге»), это не отменяло его главенства и значения в победе. Такое заключение находило поддержку не только у советского руководства, напрямую связывавшего роль «отца» с политикой коммунистической партии, но и у современных российских властей, видящих в блокадных начальниках родственные фигуры.
Итак, нарративная структура соцреалистического романа, сыграв ключевую роль в формировании представлений о блокаде, контролировала смыслы. Цензурные запреты и особенная организация советского поля литературы также не способствовали появлению новых значений. Со временем и в истории, и в литературе появились произведения, тщательнее и детальнее раскрывавшие особенности блокадной жизни. Но в то же самое время наращивание деталей почти не влияло на базовую структуру повествования, которая по-прежнему осталась связанной с соцреалистическим формальным каноном. Соцреализм стал элементом гуманитарного и социального академического дискурсов и до сих пор играет важную роль в формировании исторических представлений о прошлом, воздействуя на современную российскую идентичность.
Наталия Арлаускайте
«Пройдемте, товарищи, быстрее!»: режимы визуальности для блокадной повседневности
Вынесенную в заглавие фразу произносит экскурсовод в фильме Игоря Таланкина «Дневные звезды» (1966), основанном на одноименной автобиографической книге Ольги Берггольц, вышедшей в 1959 году. Гид ведет экскурсию по Угличу и заученным голосом выпаливает текст о месте убийства царевича Дмитрия, которым только что себя представляла Берггольц (Алла Демидова). В воображении героини фильма и киноповествовании история убитого царевича продолжится – Берггольц еще увидит себя в возрасте военного времени на отпевании царевича, а затем одной из участниц подавленного бунта. Ольга Берггольц в фильме непрестанно «примеряет» разные позиции для показа истории – на отпевании царевича она и царевич (актриса, игравшая Берггольц в детстве), и мстительница за него (Демидова в гриме блокадной Берргольц), участвует в истории в разных ролях и временных комбинациях – в качестве наблюдательницы за устоявшимся способом рассказа о событии и его же переиначивательницы. Слова гида, скрепленные казенно-профессиональной интонацией и произносимые в окружении анонимной группы туристов, утрированно демонстрируют устоявшийся, институционализированный способ исторического повествования, которому оппонируют «Дневные звезды».
Вне зависимости от того, насколько удачен этот опыт, фильм ставит вопрос о том, из чего состоит, из чего собран наличный визуальный порядок истории, набор каких визуальных режимов находится в распоряжении игрового кино, обращающегося к блокадному материалу. В определенном смысле эту проблему сформулировала сама Берггольц в «Дневных звездах». В главке «Главная книга» смысл такой книги видится в том, чтобы быть насыщенной «предельной правдой нашего общего бытия, прошедшего через мое сердце»[110 - Берггольц О. «Не дам забыть…» Избранное. СПб.: Полиграф, 2014. С. 325.]. Двумя основными повествовательными режимами для истории здесь полагаются исповедь и проповедь с возможностью их переключения друг в друга[111 - «Попытки отделить исповедь от проповеди, противопоставить их друг другу, наконец, предпочесть исповедь проповеди – или наоборот – вызывают активный внутренний протест не только в силу своей явной чуждости и вредности для дела советской литературы, но еще, я бы сказала, своей какой-то воинствующей малограмотностью. Эти попытки производятся людьми, которые явно не любят, не ценят и даже не знают опыта великой русской классики и советской литературы, никогда не отделявших исповеди от проповеди, но, наоборот, всегда стремившихся использовать форму исповеди как сильнейшее орудие пропаганды, то есть проповеди» (Там же. С. 329–330).], а предпочтительной формой называется дневник.
В скудном советском и постсоветском игровом киноархиве блокады[112 - Это следующие фильмы: «Непобедимые» (1942) Сергея Герасимова и Михаила Калатозова, «Два бойца» (1943) Леонида Лукова, «Жила-была девочка» (1944) Виктора Эйсымонта, «Ленинградская симфония» (1957) Захара Аграненко, «Балтийское небо» (1960) Владимира Венгерова, «Вступление» (1963) и «Дневные звезды» (1966) Игоря Таланкина, «Зимнее утро» (1966) Николая Лебедева, «Зеленые цепочки» (1970) Григория Аронова, «Всегда со мной…» Соломона Шустера, «Мы смерти смотрели в лицо» (1980) Наума Бирмана, «Соло» (1980) Константина Лопушанского, «Порох» (1985) Виктора Аристова, «Красный стрептоцид» (2001) Василия Чигинского, «Ленинград» (2007) Александра Буравского, «Ленинград» (2014) Игоря Вишневецкого.] «Дневные звезды» помечают тот момент, когда происходит отход от работы с блокадной хроникой, как правило исчерпывающейся тем объемом, в каком жизнь блокадного города была увидена в фильме «Ленинград в борьбе» (1942). В разных дозах и комбинациях хроника блокады в том виде, в котором она присутствовала в «Ленинграде в борьбе», использовалась во всех первых фильмах о блокаде: «Непобедимые» (1942)[113 - О фильме «Непобедимые», как и о фильме «Два бойца», снятом в эвакуации, в контексте утопического киномышления о блокадном городе см.: Барскова П. В город входит смерть // Сеанс. 2015. № 59/60 (http://seance.ru/blog/xronika/smert/ #text-15).], «Два бойца» (1943), «Жила-была девочка» (1944), «Ленинградская симфония» (1957) и «Балтийское небо» (1960). В 1966 году вышли сразу два блокадных фильма: «Дневные звезды» и «Зимнее утро» Николая Лебедева. Черно-белое «Зимнее утро» ограничивается документальными кадрами Гитлера и бомбежек, с которых начинается фильм, а в первом цветном фильме о блокаде, «Дневные звезды», появляется уже современная, выполненная в цвете документальная съемка. В последующих игровых фильмах о Ленинградской блокаде документальные съемки практически исчезают[114 - Телевизионные сериалы не учитываются.] и вновь появляются уже в «Ленинграде» (2014) Игоря Вишневецкого, который, как и «Блокада» Сергея Лозницы (2006)[115 - Об организации хроники в этом фильме в контексте де- и реархивации исторического знания см.: Арлаускайте Н. Пределы архива: «Блокада» Сергея Лозницы // Гетеротопии: миры, границы, повествование [Literatura. № 57 (5)]. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2015. С. 157–171.], существенно расширяет хроникальный видеоряд блокады.
В этой статье речь пойдет о сочетании визуальных режимов блокадной истории в игровом кино. О том, как в связи с динамикой использования блокадной кинохроники в игровом кино устанавливается/меняется киноархив блокады, если архив, вслед за Мишелем Фуко, понимается не как совокупность текстов и предметов, а как условия производства суждений об истории. Эти условия – правила, по которым происходит отбор, приоретизация, дисквалификация или изменение статуса тех или иных объектов, в данном случае документальных кадров в соотношении с возможностями «говорить об истории», которыми располагает повествовательное игровое кино. Основное внимание уделяется приемам и механизмам использования хроники в блокадном киноповествовании в контексте контроля за репродуцируемой версией блокадного опыта.
* * *
Здесь используемая и развиваемая идея визуального/скопического режима обладает искусствоведчески-киноведческой генеалогией. Мартин Джей заимствует этот термин у Кристиана Метца, который через взаимодействие между желанием, дистанцией, взглядом и его объектом объясняет специфику функционирования кино, в котором дистанция между зрителем и плоским экраном и отсутствие объекта неустранимы и необходимы для работы скопического удовольствия[116 - Метц К. Воображаемое означающее. Психоанализ и кино / Пер. Д. Калугина, Н. Мовниной. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2010. С. 93–94.].
Джей подхватывает термин «скопический режим» для обозначения различных способов визуального восприятия, которые свойственны Новому времени и могут быть обозначены как конкурирующие друг с другом «скопические режимы модерности»: «…скопический режим модерности следует понимать как спорную территорию, а не как гармоничный и последовательный комплекс визуальных теорий и практик. Его можно охарактеризовать путем дифференциации визуальных субкультур, разделение которых позволяет понять множественность импликаций видения»[117 - Jay M. Scopic Regimes of Modernity // Vision and Visuality / Ed. by H. Foster. Seattle: Bay Press, 1988. P. 4.]. Основными скопическими режимами модерности, практически никогда не существующими в чистом виде, Джей считает (ренессансный) перспективизм, дескриптивный, картографический взгляд (прежде всего в голландской живописи XVII века) и барочный способ видения. Эти режимы оперируют различными концепциями «реалистичности» и конструируют разных субъектов взгляда, оставаясь при этом неиерархичными и не привязанными к месту и времени своего возникновения.
То есть разные типы (кинематографической) визуальности можно понимать одновременно и как специфический «скопический режим контроля и доминирования»[118 - Elsaesser Th., Hagener M. Film Theory: An Introduction through Senses. Routledge, 2010. P. 102.], восходящий к оптике социального контроля, описанной Фуко, и как «тот конкретный характер режима веры, который будет принят зрителем» и который вместе с различными степенями миметичности будет различным «в разных техниках вымысла»[119 - Метц К. Воображаемое означающее. С. 100.]. В данном случае разные визуальные режимы и разные «техники вымысла» связаны прежде всего с хроникальностью и повествовательностью, задействованными в игровом кино. Речь идет о том, как, на каких условиях и с какими последствиями традиционное (классическое) киноповествование «принимает» хроникальные кадры в «блокадных» фильмах 1942–1960-х годов[120 - Bordwell D. Narration in the Fiction Film. University of Wisconsin Press, 1985.], то есть о том, как взаимодействуют разные «техники вымысла».
Как показывает Мэри Энн Дон на примере анализа политики звука в повествовательном кинематографе, визуальная идеология нарративного кино в целом состоит в последовательном «подавлении материальной гетерогенности»[121 - Doane M. A. Ideology and the Practice of Sound Editing and Mixing // Film Sound: Theory and Practice / Ed. by E. Weis, J. Belton. New York: Columbia University Press, 1985. P. 57.], а его идеологическая цель – в том, чтобы «скрыть ту огромную работу, которая необходима для создания эффекта спонтанности и естественности»[122 - Ibid. P. 61.], порождающих, в свою очередь, иллюзию гиперсвязности мира, единство знания и его субъекта. То есть все анализируемые фильмы «рискуют» своей связностью в тот момент, когда становятся проницаемыми для иного режима визуальности. Этот иной режим визуальности – хроника – обращается к уже готовому архиву блокады, который начиная с «Ленинграда в борьбе» описывается тем, что Полина Барскова называет «телеологическим большим нарративом с позиции Смольного»[123 - Barskova P. Sergei Loznitsa, The Siege (Blokada, 2006) [Review] // KinoKultura. 2009. № 24 (http://www.kinokultura.com/2009/24r-blokada.shtml).], будь то игровое кино или документальное (помимо «Ленинграда в борьбе» тот же тип нарратива реализует «Подвиг Ленинграда» (1959), «900 незабываемых дней» (1964) и другие фильмы).
В то же время хроникальные кадры блокады обращаются к эфемерности и случайности, заложенным в кино и создаваемом им архиве, как их описывает Дон: «…кино напрямую работает с проблематикой репрезентируемости эфемерного, архивируемости настоящего»[124 - Doane M. A. The Emergence of Cinematic Time: Modernity, Contingency, the Archive. Harvard University Press, 2002. P. 25.]. В целом особенность кино состоит в том, что если преимущественная его ценность заключается в запечатлении случайного, то сама природа кино, его существование в режиме потенциального репродуцирования и повтора вступают в противоречие с идеей случайности, эксцесса, эфемерности. Основной способ контролировать случайность и эфемерность настоящего – различные формы монтажа. Именно с появлением монтажа эфемерное, случайное, настоящее (время, презентивность) приобретают свойство прошедшего и начинают принадлежать истории – «монтаж переводит настоящее в только что минувшее»[125 - Ibid. P. 105. Ср. идеи Зигфрида Кракауэра и Жоржа Диди-Юбермана о роли монтажа и Андре Гoдро о временно?м аспекте различия между наррацией и монстрацией (Kracauer S. The Theory of Film: The Redemption of Physical Reality. Oxford: Oxford University Press, 1960; Didi-Huberman G. Images in Spite of All: Four Photographs from Auschwitz. Chicago: The University of Chicago Press, 2008; Gaudreault A. From Plato to Lumi?re: Narration and Monstration in Literature and Cinema. University of Toronto Press, 2009).].
Присущая реалистическому историческому киноповествованию, использующему кинохронику, гетерогенность потенциально субверсивна, и один из центральных вопросов, возникающих в связи с соседством различных режимов киновизуальности, – это вопрос о способах регулирования, «темперирования» этой визуальной гетерогенности. Другими словами, в контексте блокадных фильмов вопрос об использовании хроникальных кадров – это вопрос о способах контроля за случайностью, за эфемерным, о способах включить этот контроль в идеологию нарративного игрового кино.
Это особенно важно для реалистического исторического киноповествования, которое в целом непригодно для передачи сложности исторического опыта, так как представляет такой тип исторического воображения, который Томас Эльзассер с отсылкой к Жану Бодрийяру называет «ретросценарием»:
…пребывающие в состоянии политической стагнации граждане Западной Европы при помощи кино предаются воспоминаниям о тех временах, когда в истории их стран еще существовали отдельные злодеи и жертвы, существовали имевшие значение цели, принимались решения о жизни и смерти. В таком подходе к истории привлекала возможность предложить рассказ с началом, серединой и концом, который создавал бы иллюзию повествования о судьбе человека или нации. Эту потребность фашизм пытался удовлетворить в массовом масштабе. Поэтому Бодрийяр считает, что кинематографический возврат в историю – это не попытка примириться с прошлым, а фетишизация совсем другого, связанного с настоящим переживания[126 - Эльзассер Т. История – всего лишь старый фильм? // Искусство кино. 1994. № 10. C. 60.].
В контексте блокадных фильмов важно, что режим ретросценария остается практически неизменным в течение двадцати лет – начиная с фильмов военного времени и до начала 1960-х годов: все это время используется практически идентичный набор хроникального материала, подчиняемого нуждам ретросценария.
* * *
С 1942 года до начала 1960-х годов из фильма в фильм, если они принадлежат игровому киноархиву блокады, переходят те же самые или родственные кадры (напомню: в центре внимания – не собственно цитатная ткань фильма, а тип изображения, режим визуальности, задействованный в блокадном архиве, в том его виде, который практикуется в советском игровом кино). Пять блокадных фильмов («Непобедимые», «Два бойца», «Жила-была девочка», «Ленинградская симфония» и «Балтийское небо») перерабатывают и воспроизводят хроникальное изображение блокады, какой она, не раз отцензурированная, предстала в 1942 году в фильме «Ленинград в борьбе». Однако воспроизведение никогда не является идентичным, повтор сопровождает различие, вводящее нюансы как в репрезентацию блокады на киноэкране, так и во взаимодействие режимов киновизуальности.
Хроникальный набор
В «Ленинграде в борьбе» жизни блокадного города зимой 1941/ 42 года отведено двадцать минут из семидесяти: с 27:30 до 46:50, то есть город и его жители обрамлены повествованием о военных действиях, а блокадная повседневность полностью подчиняется военным целям и маневрам, прежде всего сохранению производительности – созданию оружия. В этой двадцатиминутной нарезке блокадной хроники содержатся кадры, затем кочующие по блокадным фильмам и составляющие своего рода иконографический блокадный канон в кино. Этот канон функционирует двумя разными способами: как прямое, цитатное воспроизведение хроники и как определенный тип, элемент хроникального изображения, «переведенный» в режим игрового реалистического кино. Можно выделить ряд подобных постоянно повторяющихся элементов блокадного кинематографического канона, которые функционируют как в ранних фильмах о блокаде, так и в фильмах, созданных после 1960 года.
Далее приведены соответствующие кадры из фильма «Ленинград в борьбе»; в перечне указаны некоторые элементы и перечислены те фильмы, в которых они встречаются; при этом в случае, если эти элементы функционируют в фильме первым образом, название фильма дано курсивом, а если вторым – то полужирным шрифтом. В некоторых фильмах употребляются оба способа – их название дано полужирным курсивом.
1. Сбор воды («Жила-была девочка», «Два бойца», «Ленинградская симфония», «Дневные звезды», «Мы смерти смотрели в лицо»).
2. Ребенок в блокадном городе («Два бойца», «Ленинградская симфония», «Балтийское небо», «Дневные звезды»).
3. Перевозка умерших («Ленинградская симфония», «Балтийское небо», «Дневные звезды», «Зимнее утро», «Мы смерти смотрели в лицо»).
4. Замерзшие трамваи («Жила-была девочка», «Балтийское небо», «Зимнее утро», «Мы смерти смотрели в лицо», «Соло»).
5. Зимний фонарь («Жила-была девочка», «Ленинградская симфония», «Балтийское небо»).
В «Блокадной книге» Адамовича и Гранина, наоборот, протагонистов представляют в основном люди интеллектуальных профессий, в то время как среди антигероев, способных к безнравственным поступкам, оказываются простолюдины. Гранин писал:
…мы решили показать достоинство Ленинграда как города духовной культуры, она помогла устоять. Интеллигенция в этой эпопее предстала со всеми преимуществами своей душевной силы. Принципы, воспитанные традициями русской интеллигенции, помогли ей не расчеловечиться[100 - Гранин Д. О блокаде // Он же. Тайный знак Петербурга. С. 140–141.].
Аналогичным образом были структурированы нарративы о героях и «антигероях» в исторических монографиях. Как и в художественных произведениях соцреализма, главный герой обязан был встретиться с «антигероем» и победить его. В монографии Дмитрия Павлова «Ленинград в блокаде», написанной в 1958 году и переиздававшейся большими тиражами в СССР в общей сложности шесть раз, в число последних попали заведующая хлебным магазином и ее помощница, которые обвешивали покупателей, а на остававшийся у них хлеб приобретали антиквариат. Правда, автор тут же добавлял, что «ослепленные наживой, они забывали, что находятся хотя и в окруженном лютыми врагами, но в советском городе, где хранят и чтут законы революции. По приговору суда обе преступницы были расстреляны»[101 - Павлов Д. В. Ленинград в блокаде. М., 1958. С. 174.]. Текст этой работы редактировался и исправлялся для каждого нового издания, он сохранил структуру повествования в неизменном виде во всех редакциях, включая и этот эпизод. Дмитрий Павлов в начале блокады был уполномоченным Государственного Комитета Обороны (ГКО) по обеспечению продовольствием Ленинграда и Ленинградского фронта, поэтому основной фокус его исследования был сделан на продовольственном снабжении города. Во время работы над книгой Павлов возглавлял Министерство торговли СССР. В этой работе практически нет ссылок на архивные источники, но при этом приводится большое количество статистических данных, пересказывается ряд документов и важных для понимания решений властей переговоров руководителей, которые впоследствии стали цитироваться в других исследованиях. Той же схемы придерживались и авторы «Непокоренного Ленинграда», когда рассказывали читателям о редких случаях спекуляции продовольствием «неустойчивыми элементами», как правило подталкиваемыми к этой деятельности фашистской разведкой[102 - Непокоренный Ленинград. С. 118.].
Но, естественно, главным антагонистом в произведениях о блокаде выступала немецкая армия. «Сознательность» в данном случае олицетворяла приверженность советских граждан цивилизованному миру, ценностям человеколюбия и гуманизма и верному политическому курсу, в то время как немецкие войска связывались с архаичными силами зла. Так, в поэме Веры Инбер «Пулковский меридиан» враг – образец варварства, который намеренно бомбит госпиталя, музеи, университеты, убивает женщин и давит танками детей, разрушает могилы и уничтожает святыни. Поэтому гуманизмом, к которому призывала Инбер, было уничтожение врага:
От русских сел до чешского вокзала,
От крымских гор до Ливии пустынь,
Чтобы паучья лапа не всползала
На мрамор человеческих святынь,
Избавить мир, планету от чумы —
Вот гуманизм! И гуманисты – мы[103 - Инбер В. Пулковский меридиан. С. 191.].
Отсюда и эпитеты, которыми награждалась вражеская армия не только в художественных произведениях, но и в исторических монографиях: «фашистские полчища», «изверги», «варвары», «разбойники». Например, у Павлова: «Между тем немецкие дивизии, используя превосходство своих сил, вторгались все глубже и глубже в пределы нашей земли, терзая ее гусеницами тяжелых танков»[104 - Павлов Д. В. Ленинград в блокаде. М., 1958. С. 17.].
В большинстве текстов о блокаде, описывающих столкновение «сознательного» и «стихийного», четко прочитывается мысль о пережитых в блокаду испытаниях как коллективной инициации населения города. Согласно этому нарративу, главным из испытаний была первая блокадная зима, показавшая величие духа ленинградцев: люди умирали, но не сдавались и выживали благодаря массовой взаимопомощи. В исторических сочинениях эта мысль иллюстрировалась примерами, почерпнутыми из дневниковых записей ленинградцев, в художественной литературе – с помощью рассказов о героях, которым помогли или которые помогали другим зимой 1941/42 года. Но в каждом советском тексте писали о доброте и отзывчивости блокадных людей. Это мог быть рассказ о соседке, выкупавшей продукты на карточку, о незнакомых или едва знакомых людях, делившихся последним куском хлеба, и т. д. Тема взаимопомощи была чрезвычайно развита и в мемуарах блокадников. В советском тексте ленинградцы не только пережили блокаду, но и перешли в новое состояние – стали лучше и сильнее. Именно об этом говорили все публичные обращения властей к Ленинграду, именно с помощью этого сформировался образ жителя-героя.
Говоря об инициации, необходимо отметить особую функцию, которую в соцреализме играла природа: «В сталинских романах природа обычно является не местом действия, но антагонистом (или метафорическим обозначением антагониста), главным препятствием на пути к сознательности и выполнению задания»[105 - Кларк К. Советский роман. С. 143.]. Тем же смыслом наделялась природа и в сочинениях о блокаде. Лютые морозы и обилие снега первой блокадной зимы описывались как один из центральных мотивов, объясняющих драматическое положение населения, наряду с уменьшением норм выдачи продовольствия, бомбежками и артиллерийскими обстрелами противника. Вот один из характерных примеров такого рассказа:
Наступил ноябрь. Сухие ясные дни октября сменились пасмурными, холодными днями с обильным снегопадом. Земля покрылась толстым слоем снега, на улицах и проспектах образовались сугробы. Морозный ветер гнал снежную пыль в щели землянок, блиндажей, в выбитые окна квартир, больниц, магазинов. Зима установилась ранняя, снежная и морозная. Движение городского транспорта с каждым днем уменьшалось, топливо подходило к концу, жизнь предприятий замирала. Рабочие и служащие, проживавшие в отдаленных районах города, шли на работу пешком несколько километров, пробираясь по глубокому снегу с одного конца города на другой. По окончании трудового дня, усталые, они едва добирались до дому[106 - Павлов Д. В. Ленинград в блокаде. М., 1958. С. 152.].
Итак, сугробы, ветер и зима также играли роль «стихийного» антагониста, противостояние которому помогало герою совершить требуемый от него соцреалистической фабульной схемой переход в новое качество. Природа пытается заморозить жизнь в городе, но сознательность советских людей противостоит этому.
Любопытно, что тот же климатический мотив мог бы быть интерпретирован в текстах о блокаде совершенно иначе: благодаря морозу стало возможно организовать подвоз продуктов по льду Ладожского озера. И в этом контексте природу можно было бы оценивать как помощника, а не антагониста. Но этого не происходит: мотив противопоставления сознательных человеческих усилий и стихийного сопротивления природы берет верх.
Счастливый конец
Счастливый с точки зрения социалистической перспективы конец был необходимой составляющей картины мира советского человека. Блокада в художественных и публицистических произведениях не просто тяжелое героическое прошлое, но урок для будущих поколений. Поэтому в детской литературе заключительные строки книги нередко адресовались юным читателям, обязанным чтить и помнить героев-ленинградцев. Так, повесть Помозова заканчивалась следующим обращением:
Память соединила вас с ленинградскими ремесленниками блокадной поры. Им, конечно, можно завидовать. Но и они могут завидовать тому, что вы учитесь в мирное время. Цените его! Пусть ваши резцы и фрезы, сверла и наждаки всегда выполняют только мирные заказы[107 - Помозов Ю. Блокадная юность. С. 142.].
В художественной литературе главный герой зачастую погибал, что не меняло общего мажорного финала, так как смерть героя была лишь прологом его символического возрождения в памяти благодарных потомков. В исторических сочинениях эта формула проявилась столь же отчетливо, как и в художественных текстах. Финал историографического нарратива предполагал использование приемов, схожих с уже выработанными в литературе соцреализма и соответствовавших схемам прохождения ритуальных испытаний. Испытание и принесение жертв заканчивалось победой «сознательного» над «стихийным» и обретением социального и исторического статуса, более высокого, чем в начальной ситуации. Поэтому завершение описания блокады необходимо перетекало в рассказ о послевоенном восстановлении города, в котором новый возродившийся Ленинград позитивно противопоставлялся старому довоенному. Как писали авторы коллективной монографии «Непокоренный Ленинград»,
памятники героическим защитникам Ленинграда, всем, кто стоял насмерть у стен города-героя, – не только величественные монументы из бронзы, гранита и мрамора. Памятник им – спасенный город, который, залечив свои раны, стал еще красивее и живет полной жизнью[108 - Непокоренный Ленинград. С. 318.].
Таким образом, советский нарратив о блокаде впитал все риторические и структурные элементы социалистического реализма. Наличие в художественных и исторических текстах главного героя и его старшего наставника, борьба стихийного и сознательного, общественное задание, испытание как инициация, природа как один из главных антагонистов – все эти формальные компоненты определили схему повествования о блокаде в советской культуре, сделав такую интерпретацию предельно понятной и узнаваемой для советского человека. Как в волшебных сказках, анализируемых Владимиром Проппом, повторявших снова и снова одни и те же образы и сюжеты, соцреалистические произведения о войне содержали глубинные смыслы, непосредственно отсылавшие к основам советского мироздания. Извечный положительный герой, с которым из поколения в поколение связывали себя советские читатели, его освободительная благородная миссия и его мудрый наставник – все это переформатировало историческую память настолько, что малейший сдвиг (например, предположение о том, что у блокады не может быть счастливого конца или что герой отнюдь не положительный) мгновенно вызывал недовольство и растерянность. Сомнения, вызванные малейшими изменениями нарративной конструкции, касались не только вопроса о репрезентации блокады, но и могли пошатнуть представления о собственном совершенстве, заложенные в глубинном подсознании коллективного Я. Как это блокадники не герои? Что значит у блокады нет счастливого конца? Отсюда и резкая реакция, которую вызывали и вызывают немногочисленные попытки писать или вспоминать о блокаде в России вопреки сложившемуся соцреалистическому канону. Это проявлялось, например, в жестких высказываниях в адрес зарубежных историков, писавших о блокаде вне ограничивавших их рамок соцреализма, что, правда, совершенно не отменяло того факта, что их работы также строились с учетом собственных, пусть и менее формализованных нарративных конструкций. Однако выход за пределы соцреализма давал им возможность задавать такие вопросы о жизни города и людей, которые казались абсолютно кощунственными с точки зрения советских авторов. Например, Дмитрий Павлов размышлял об этом следующим образом:
…американский историк Леон Гуре в своей объемистой книге «Осада Ленинграда», вышедшей в свет в 1962 году, пишет много о жизни города, о поведении людей. Причем, чтобы ему верили, он делает бесконечное количество сносок на советских авторов, без смущения чередуя правду с грубой ложью и клеветой. Гуре утверждает, что население Ленинграда во время блокады работало, но только потому, чтобы получить продовольственную карточку; дисциплина и порядок в городе соблюдались, но из страха перед властями; в Ленинграде находились люди, готовые сдаться немцам, хотя они и не представляли собой большинства; Ленинград выстоял, но не благодаря стойкости его защитников, а исключительно из-за роковых ошибок Гитлера. И в таком плане этот «историк» преподносит своим читателям беспримерную борьбу ленинградцев. Сознательно искажая правду, он всячески старается принизить бессмертный подвиг Ленинграда. Зачем Гуре понадобилось подменять правду ложью? Цель одна: угодить реакционным силам, скрыть от общественности великое преимущество советского общества, морально-политическую сплоченность его людей; показать, что стоическая борьба советских людей с лютым врагом – фашизмом не есть следствие преданности их своему социалистическому строю, а результат насилия над ними властей[109 - Павлов Д. В. Ленинград в блокаде. М., 1967. С. 155–156.].
В этой фразе автор проговаривает смысл и значение нарративной конструкции соцреализма: «великое преимущество советского общества» – это тот вывод, к которому должен был прийти советский читатель вне зависимости от того, листал ли он роман-эпопею Чаковского, «Блокадную книгу» Гранина и Адамовича или слушал «Февральский дневник» Берггольц. Вероятно, именно поэтому тема войны и блокады, отформатированная советским каноном, всегда так востребована российскими политиками, без устали апеллирующими к достоинствам и героизму предков.
Другая важная мысль, закодированная в нарративной конструкции соцреалистического романа, касается отношения общества и власти. Модель «большой семьи», о которой писала Катарина Кларк, предполагала непререкаемый авторитет Отца, воплощавшего собой саму власть, и сына – как младшего, еще несознательного персонажа, роль которого отводилась советскому обществу. От того, насколько «сын» был послушен и внимателен к советам «отца», зависел исход дела. Даже если «отец» порой был излишне резок или допускал промахи (вспомним приведенные выше описания Сталина в романе Чаковского или характеристику ленинградских руководителей в «Блокадной книге»), это не отменяло его главенства и значения в победе. Такое заключение находило поддержку не только у советского руководства, напрямую связывавшего роль «отца» с политикой коммунистической партии, но и у современных российских властей, видящих в блокадных начальниках родственные фигуры.
Итак, нарративная структура соцреалистического романа, сыграв ключевую роль в формировании представлений о блокаде, контролировала смыслы. Цензурные запреты и особенная организация советского поля литературы также не способствовали появлению новых значений. Со временем и в истории, и в литературе появились произведения, тщательнее и детальнее раскрывавшие особенности блокадной жизни. Но в то же самое время наращивание деталей почти не влияло на базовую структуру повествования, которая по-прежнему осталась связанной с соцреалистическим формальным каноном. Соцреализм стал элементом гуманитарного и социального академического дискурсов и до сих пор играет важную роль в формировании исторических представлений о прошлом, воздействуя на современную российскую идентичность.
Наталия Арлаускайте
«Пройдемте, товарищи, быстрее!»: режимы визуальности для блокадной повседневности
Вынесенную в заглавие фразу произносит экскурсовод в фильме Игоря Таланкина «Дневные звезды» (1966), основанном на одноименной автобиографической книге Ольги Берггольц, вышедшей в 1959 году. Гид ведет экскурсию по Угличу и заученным голосом выпаливает текст о месте убийства царевича Дмитрия, которым только что себя представляла Берггольц (Алла Демидова). В воображении героини фильма и киноповествовании история убитого царевича продолжится – Берггольц еще увидит себя в возрасте военного времени на отпевании царевича, а затем одной из участниц подавленного бунта. Ольга Берггольц в фильме непрестанно «примеряет» разные позиции для показа истории – на отпевании царевича она и царевич (актриса, игравшая Берггольц в детстве), и мстительница за него (Демидова в гриме блокадной Берргольц), участвует в истории в разных ролях и временных комбинациях – в качестве наблюдательницы за устоявшимся способом рассказа о событии и его же переиначивательницы. Слова гида, скрепленные казенно-профессиональной интонацией и произносимые в окружении анонимной группы туристов, утрированно демонстрируют устоявшийся, институционализированный способ исторического повествования, которому оппонируют «Дневные звезды».
Вне зависимости от того, насколько удачен этот опыт, фильм ставит вопрос о том, из чего состоит, из чего собран наличный визуальный порядок истории, набор каких визуальных режимов находится в распоряжении игрового кино, обращающегося к блокадному материалу. В определенном смысле эту проблему сформулировала сама Берггольц в «Дневных звездах». В главке «Главная книга» смысл такой книги видится в том, чтобы быть насыщенной «предельной правдой нашего общего бытия, прошедшего через мое сердце»[110 - Берггольц О. «Не дам забыть…» Избранное. СПб.: Полиграф, 2014. С. 325.]. Двумя основными повествовательными режимами для истории здесь полагаются исповедь и проповедь с возможностью их переключения друг в друга[111 - «Попытки отделить исповедь от проповеди, противопоставить их друг другу, наконец, предпочесть исповедь проповеди – или наоборот – вызывают активный внутренний протест не только в силу своей явной чуждости и вредности для дела советской литературы, но еще, я бы сказала, своей какой-то воинствующей малограмотностью. Эти попытки производятся людьми, которые явно не любят, не ценят и даже не знают опыта великой русской классики и советской литературы, никогда не отделявших исповеди от проповеди, но, наоборот, всегда стремившихся использовать форму исповеди как сильнейшее орудие пропаганды, то есть проповеди» (Там же. С. 329–330).], а предпочтительной формой называется дневник.
В скудном советском и постсоветском игровом киноархиве блокады[112 - Это следующие фильмы: «Непобедимые» (1942) Сергея Герасимова и Михаила Калатозова, «Два бойца» (1943) Леонида Лукова, «Жила-была девочка» (1944) Виктора Эйсымонта, «Ленинградская симфония» (1957) Захара Аграненко, «Балтийское небо» (1960) Владимира Венгерова, «Вступление» (1963) и «Дневные звезды» (1966) Игоря Таланкина, «Зимнее утро» (1966) Николая Лебедева, «Зеленые цепочки» (1970) Григория Аронова, «Всегда со мной…» Соломона Шустера, «Мы смерти смотрели в лицо» (1980) Наума Бирмана, «Соло» (1980) Константина Лопушанского, «Порох» (1985) Виктора Аристова, «Красный стрептоцид» (2001) Василия Чигинского, «Ленинград» (2007) Александра Буравского, «Ленинград» (2014) Игоря Вишневецкого.] «Дневные звезды» помечают тот момент, когда происходит отход от работы с блокадной хроникой, как правило исчерпывающейся тем объемом, в каком жизнь блокадного города была увидена в фильме «Ленинград в борьбе» (1942). В разных дозах и комбинациях хроника блокады в том виде, в котором она присутствовала в «Ленинграде в борьбе», использовалась во всех первых фильмах о блокаде: «Непобедимые» (1942)[113 - О фильме «Непобедимые», как и о фильме «Два бойца», снятом в эвакуации, в контексте утопического киномышления о блокадном городе см.: Барскова П. В город входит смерть // Сеанс. 2015. № 59/60 (http://seance.ru/blog/xronika/smert/ #text-15).], «Два бойца» (1943), «Жила-была девочка» (1944), «Ленинградская симфония» (1957) и «Балтийское небо» (1960). В 1966 году вышли сразу два блокадных фильма: «Дневные звезды» и «Зимнее утро» Николая Лебедева. Черно-белое «Зимнее утро» ограничивается документальными кадрами Гитлера и бомбежек, с которых начинается фильм, а в первом цветном фильме о блокаде, «Дневные звезды», появляется уже современная, выполненная в цвете документальная съемка. В последующих игровых фильмах о Ленинградской блокаде документальные съемки практически исчезают[114 - Телевизионные сериалы не учитываются.] и вновь появляются уже в «Ленинграде» (2014) Игоря Вишневецкого, который, как и «Блокада» Сергея Лозницы (2006)[115 - Об организации хроники в этом фильме в контексте де- и реархивации исторического знания см.: Арлаускайте Н. Пределы архива: «Блокада» Сергея Лозницы // Гетеротопии: миры, границы, повествование [Literatura. № 57 (5)]. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2015. С. 157–171.], существенно расширяет хроникальный видеоряд блокады.
В этой статье речь пойдет о сочетании визуальных режимов блокадной истории в игровом кино. О том, как в связи с динамикой использования блокадной кинохроники в игровом кино устанавливается/меняется киноархив блокады, если архив, вслед за Мишелем Фуко, понимается не как совокупность текстов и предметов, а как условия производства суждений об истории. Эти условия – правила, по которым происходит отбор, приоретизация, дисквалификация или изменение статуса тех или иных объектов, в данном случае документальных кадров в соотношении с возможностями «говорить об истории», которыми располагает повествовательное игровое кино. Основное внимание уделяется приемам и механизмам использования хроники в блокадном киноповествовании в контексте контроля за репродуцируемой версией блокадного опыта.
* * *
Здесь используемая и развиваемая идея визуального/скопического режима обладает искусствоведчески-киноведческой генеалогией. Мартин Джей заимствует этот термин у Кристиана Метца, который через взаимодействие между желанием, дистанцией, взглядом и его объектом объясняет специфику функционирования кино, в котором дистанция между зрителем и плоским экраном и отсутствие объекта неустранимы и необходимы для работы скопического удовольствия[116 - Метц К. Воображаемое означающее. Психоанализ и кино / Пер. Д. Калугина, Н. Мовниной. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2010. С. 93–94.].
Джей подхватывает термин «скопический режим» для обозначения различных способов визуального восприятия, которые свойственны Новому времени и могут быть обозначены как конкурирующие друг с другом «скопические режимы модерности»: «…скопический режим модерности следует понимать как спорную территорию, а не как гармоничный и последовательный комплекс визуальных теорий и практик. Его можно охарактеризовать путем дифференциации визуальных субкультур, разделение которых позволяет понять множественность импликаций видения»[117 - Jay M. Scopic Regimes of Modernity // Vision and Visuality / Ed. by H. Foster. Seattle: Bay Press, 1988. P. 4.]. Основными скопическими режимами модерности, практически никогда не существующими в чистом виде, Джей считает (ренессансный) перспективизм, дескриптивный, картографический взгляд (прежде всего в голландской живописи XVII века) и барочный способ видения. Эти режимы оперируют различными концепциями «реалистичности» и конструируют разных субъектов взгляда, оставаясь при этом неиерархичными и не привязанными к месту и времени своего возникновения.
То есть разные типы (кинематографической) визуальности можно понимать одновременно и как специфический «скопический режим контроля и доминирования»[118 - Elsaesser Th., Hagener M. Film Theory: An Introduction through Senses. Routledge, 2010. P. 102.], восходящий к оптике социального контроля, описанной Фуко, и как «тот конкретный характер режима веры, который будет принят зрителем» и который вместе с различными степенями миметичности будет различным «в разных техниках вымысла»[119 - Метц К. Воображаемое означающее. С. 100.]. В данном случае разные визуальные режимы и разные «техники вымысла» связаны прежде всего с хроникальностью и повествовательностью, задействованными в игровом кино. Речь идет о том, как, на каких условиях и с какими последствиями традиционное (классическое) киноповествование «принимает» хроникальные кадры в «блокадных» фильмах 1942–1960-х годов[120 - Bordwell D. Narration in the Fiction Film. University of Wisconsin Press, 1985.], то есть о том, как взаимодействуют разные «техники вымысла».
Как показывает Мэри Энн Дон на примере анализа политики звука в повествовательном кинематографе, визуальная идеология нарративного кино в целом состоит в последовательном «подавлении материальной гетерогенности»[121 - Doane M. A. Ideology and the Practice of Sound Editing and Mixing // Film Sound: Theory and Practice / Ed. by E. Weis, J. Belton. New York: Columbia University Press, 1985. P. 57.], а его идеологическая цель – в том, чтобы «скрыть ту огромную работу, которая необходима для создания эффекта спонтанности и естественности»[122 - Ibid. P. 61.], порождающих, в свою очередь, иллюзию гиперсвязности мира, единство знания и его субъекта. То есть все анализируемые фильмы «рискуют» своей связностью в тот момент, когда становятся проницаемыми для иного режима визуальности. Этот иной режим визуальности – хроника – обращается к уже готовому архиву блокады, который начиная с «Ленинграда в борьбе» описывается тем, что Полина Барскова называет «телеологическим большим нарративом с позиции Смольного»[123 - Barskova P. Sergei Loznitsa, The Siege (Blokada, 2006) [Review] // KinoKultura. 2009. № 24 (http://www.kinokultura.com/2009/24r-blokada.shtml).], будь то игровое кино или документальное (помимо «Ленинграда в борьбе» тот же тип нарратива реализует «Подвиг Ленинграда» (1959), «900 незабываемых дней» (1964) и другие фильмы).
В то же время хроникальные кадры блокады обращаются к эфемерности и случайности, заложенным в кино и создаваемом им архиве, как их описывает Дон: «…кино напрямую работает с проблематикой репрезентируемости эфемерного, архивируемости настоящего»[124 - Doane M. A. The Emergence of Cinematic Time: Modernity, Contingency, the Archive. Harvard University Press, 2002. P. 25.]. В целом особенность кино состоит в том, что если преимущественная его ценность заключается в запечатлении случайного, то сама природа кино, его существование в режиме потенциального репродуцирования и повтора вступают в противоречие с идеей случайности, эксцесса, эфемерности. Основной способ контролировать случайность и эфемерность настоящего – различные формы монтажа. Именно с появлением монтажа эфемерное, случайное, настоящее (время, презентивность) приобретают свойство прошедшего и начинают принадлежать истории – «монтаж переводит настоящее в только что минувшее»[125 - Ibid. P. 105. Ср. идеи Зигфрида Кракауэра и Жоржа Диди-Юбермана о роли монтажа и Андре Гoдро о временно?м аспекте различия между наррацией и монстрацией (Kracauer S. The Theory of Film: The Redemption of Physical Reality. Oxford: Oxford University Press, 1960; Didi-Huberman G. Images in Spite of All: Four Photographs from Auschwitz. Chicago: The University of Chicago Press, 2008; Gaudreault A. From Plato to Lumi?re: Narration and Monstration in Literature and Cinema. University of Toronto Press, 2009).].
Присущая реалистическому историческому киноповествованию, использующему кинохронику, гетерогенность потенциально субверсивна, и один из центральных вопросов, возникающих в связи с соседством различных режимов киновизуальности, – это вопрос о способах регулирования, «темперирования» этой визуальной гетерогенности. Другими словами, в контексте блокадных фильмов вопрос об использовании хроникальных кадров – это вопрос о способах контроля за случайностью, за эфемерным, о способах включить этот контроль в идеологию нарративного игрового кино.
Это особенно важно для реалистического исторического киноповествования, которое в целом непригодно для передачи сложности исторического опыта, так как представляет такой тип исторического воображения, который Томас Эльзассер с отсылкой к Жану Бодрийяру называет «ретросценарием»:
…пребывающие в состоянии политической стагнации граждане Западной Европы при помощи кино предаются воспоминаниям о тех временах, когда в истории их стран еще существовали отдельные злодеи и жертвы, существовали имевшие значение цели, принимались решения о жизни и смерти. В таком подходе к истории привлекала возможность предложить рассказ с началом, серединой и концом, который создавал бы иллюзию повествования о судьбе человека или нации. Эту потребность фашизм пытался удовлетворить в массовом масштабе. Поэтому Бодрийяр считает, что кинематографический возврат в историю – это не попытка примириться с прошлым, а фетишизация совсем другого, связанного с настоящим переживания[126 - Эльзассер Т. История – всего лишь старый фильм? // Искусство кино. 1994. № 10. C. 60.].
В контексте блокадных фильмов важно, что режим ретросценария остается практически неизменным в течение двадцати лет – начиная с фильмов военного времени и до начала 1960-х годов: все это время используется практически идентичный набор хроникального материала, подчиняемого нуждам ретросценария.
* * *
С 1942 года до начала 1960-х годов из фильма в фильм, если они принадлежат игровому киноархиву блокады, переходят те же самые или родственные кадры (напомню: в центре внимания – не собственно цитатная ткань фильма, а тип изображения, режим визуальности, задействованный в блокадном архиве, в том его виде, который практикуется в советском игровом кино). Пять блокадных фильмов («Непобедимые», «Два бойца», «Жила-была девочка», «Ленинградская симфония» и «Балтийское небо») перерабатывают и воспроизводят хроникальное изображение блокады, какой она, не раз отцензурированная, предстала в 1942 году в фильме «Ленинград в борьбе». Однако воспроизведение никогда не является идентичным, повтор сопровождает различие, вводящее нюансы как в репрезентацию блокады на киноэкране, так и во взаимодействие режимов киновизуальности.
Хроникальный набор
В «Ленинграде в борьбе» жизни блокадного города зимой 1941/ 42 года отведено двадцать минут из семидесяти: с 27:30 до 46:50, то есть город и его жители обрамлены повествованием о военных действиях, а блокадная повседневность полностью подчиняется военным целям и маневрам, прежде всего сохранению производительности – созданию оружия. В этой двадцатиминутной нарезке блокадной хроники содержатся кадры, затем кочующие по блокадным фильмам и составляющие своего рода иконографический блокадный канон в кино. Этот канон функционирует двумя разными способами: как прямое, цитатное воспроизведение хроники и как определенный тип, элемент хроникального изображения, «переведенный» в режим игрового реалистического кино. Можно выделить ряд подобных постоянно повторяющихся элементов блокадного кинематографического канона, которые функционируют как в ранних фильмах о блокаде, так и в фильмах, созданных после 1960 года.
Далее приведены соответствующие кадры из фильма «Ленинград в борьбе»; в перечне указаны некоторые элементы и перечислены те фильмы, в которых они встречаются; при этом в случае, если эти элементы функционируют в фильме первым образом, название фильма дано курсивом, а если вторым – то полужирным шрифтом. В некоторых фильмах употребляются оба способа – их название дано полужирным курсивом.
1. Сбор воды («Жила-была девочка», «Два бойца», «Ленинградская симфония», «Дневные звезды», «Мы смерти смотрели в лицо»).
2. Ребенок в блокадном городе («Два бойца», «Ленинградская симфония», «Балтийское небо», «Дневные звезды»).
3. Перевозка умерших («Ленинградская симфония», «Балтийское небо», «Дневные звезды», «Зимнее утро», «Мы смерти смотрели в лицо»).
4. Замерзшие трамваи («Жила-была девочка», «Балтийское небо», «Зимнее утро», «Мы смерти смотрели в лицо», «Соло»).
5. Зимний фонарь («Жила-была девочка», «Ленинградская симфония», «Балтийское небо»).