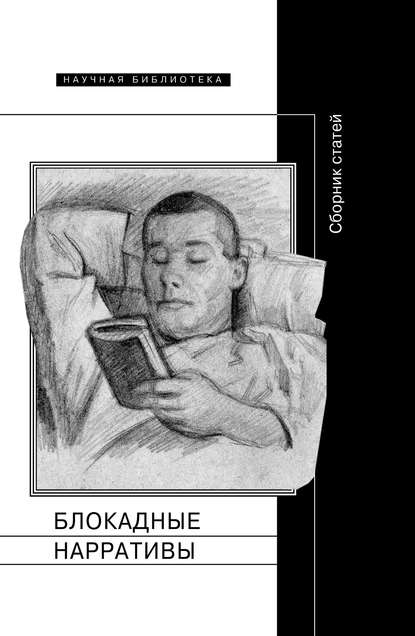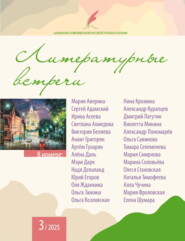По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Блокадные нарративы (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Обязательный для соцреализма положительный главный герой в произведении Тихонова был безупречен. Киров здесь показан несомненным авторитетом в городе и в Кремле, верным сталинцем, популярным и любимым руководителем ленинградского пролетариата. Встречающиеся ему на пути ленинградцы также представлены как герои, хотя и неизвестные – они воплощают собой трудовой народ. Имя Кирова в поэме обрело элементы магического оберега для Ленинграда. Так, матрос, попавший в поле внимания автора поэмы, оказывается с крейсера «Киров», рабочий – с Кировского завода, дружинница – из Кировского района города, а на танке ленинградских защитников помещена надпись «За Кирова»:
И в ярости злой канонады
Немецкую гробить орду
В железных ночах Ленинграда
На бой ленинградцы идут.
И красное знамя над ними,
Как знамя победы, встает.
И Кирова грозное имя
Полки ленинградцев ведет![73 - Тихонов Н. Киров с нами. С. 350.]
Образ советского политического лидера в качестве протагониста художественного произведения не был изобретен Тихоновым – кажется, он пришел в литературу вместе с ленинианой 1920-х годов. Однако в контексте войны и блокады Тихонов одним из первых подчеркнул свое восхищение советским руководством, одно упоминание имени которого, казалось, гарантировало победу над врагом. В 1943 году другой ленинградский поэт, Борис Лихарев, использовал ту же конструкцию, что и Тихонов, в стихотворении «Ленинский броневик». Только вместо шагающего по Ленинграду Кирова защитников города воодушевлял образ броневика Ленина:
Есть легенда,
что в ночь блокадную
К фронту,
К Пулкову напрямик,
Там, где стыли дороги рокадные,
Прогремел Ильича броневик[74 - Лихарев Б. Ленинский броневик // Он же. Стихотворения. Л., 1972. С. 109–110.].
Иногда нарративная функция главного героя оказывалась разделена между двумя фигурами – советским народом и партийным руководством. Это обстоятельство, однако, не должно было смущать читателей. Во-первых, использование образа руководителя в качестве протагониста соцреалистического произведения не было новым для советского читателя. Во-вторых, в соответствии с советским образом мира представители партии были «кровью и плотью» советского народа, что делало классические субъект-объектные отношения не столь жесткими. Как об этом пишет Евгений Добренко, «речь идет о подмене объекта, ведь сам субъект (партаппарат, политические институции) создает свой образ и легитимирует себя через создание образа объекта – “народа”»[75 - Добренко Е. Политэкономия соцреализма. М., 2007. С. 268.]. Таким образом, авторы художественных и исторических сочинений не видели необходимости отдельно оговаривать, где заканчивалось геройство простых ленинградцев и начиналась мудрая политика партии и наоборот.
Положительный герой как персонифицированный образ ленинградцев-блокадников, выведенный в официальной советской литературе, свидетельствовал об однозначно положительной оценке поведения жителей города. Слабые и тщедушные жертвы голода – антагонисты, попадавшие на страницы этих произведений, – лишь оттеняли мужество и сознательность большинства. Поэтому блокада признавалась обществом и властью как еще одна победа над врагом, что влияло на включение ее в арсенал положительно маркирующих город и население исторических эпизодов, достойных всенародной памяти.
Наставник/ментор
Важным фабульным персонажем произведений соцреализма был старший наставник. Кларк отмечала, что фигура наставника связывалась с пониманием роли партии в советском обществе[76 - Кларк К. Советский роман. С. 147.]. Сталин как главный наставник протагониста-народа часто фигурировал в произведениях о блокаде в 1940–1950-х годах. В некоторых из них он воодушевлял героев на подвиги, в других описывался как человек, от решений которого зависела судьба города. После разоблачения культа личности на ХХ съезде партии в 1956 году фигура Сталина постепенно исчезла из блокадной литературы: старшим наставником у защитников города и ленинградцев стала исключительно партийная организация. При этом в произведениях о блокаде некоторое время она оставалась как бы обезличенной, так как в связи с Ленинградским делом авторы произведений не рисковали упоминать кого-то из бывших ленинградских лидеров, кроме умершего к тому времени Жданова, по этой причине не попавшего под расправу.
Образ наставников создавался благодаря описанию их положительных личных качеств и проводимой ими эффективной политики, осуществляемой на пользу городу и его жителям. В монографии Д. В. Павлова, изданной в 1958 году, такими достойными похвалы фигурами представали К. Е. Ворошилов и А. А. Жданов: «От их мужества, умения и прозорливости многое зависело, и прежде всего моральное состояние войск и населения»[77 - Павлов Д. В. Ленинград в блокаде. 1941. М., 1958. С. 35.]. В последнем издании книги «моральное состояние войск и населения» зависело от Жданова, Кузнецова, Попкова и Соловьева. Но и в первом, и в последующих изданиях автор писал о том, что «люди верили им так же, как они сами свято верили в победу в самые критические дни блокады»[78 - Павлов Д. В. Ленинград в блокаде. Л., 1985. С. 73.].
В 1970-х годах Сталин снова стал героем произведения о блокаде Ленинграда в романе-эпопее Александра Чаковского, но в нем он описывался скорее как протагонист, нежели старший наставник, каким был в литературе 1940-х годов. Чаковский «очеловечил» Сталина, наделив его преимущественно положительными характеристиками, но указывая на совершенные им стратегические ошибки и просчеты. С личностью Сталина Чаковский связывал наиболее противоречивые решения и описывал его следующим образом:
…быть Сталиным означало очень многое. Это означало ненавидеть ложь и поддаваться на обман, ценить людей и не щадить их, быть спартанцем по вкусам и поощрять помпезность, быть готовым отдать за коммунизм собственную кровь – капля за каплей – и не верить, что на такой же подвиг в той же мере готовы и другие, презирать догматизм и славословие и способствовать их распространению, считать культ вождей порождением эсеровской ереси и закрывать глаза на собственный культ[79 - Чаковский А. Блокада. Кн. 1-я и 2-я. Л., 1979. С. 127.].
Примечательно, что подобный прием (наделение персонажа, символизировавшего власть, взаимоисключающими характеристиками) использовался и в других произведениях о блокаде. В «Блокадной юности» Юрия Помозова наставником был замполит ремесленного училища. Автор описывал его так:
Он вспыльчив и хладнокровен, напорист и рассудительно-нетороплив, весел и грозен, добр и скуп, проницателен и смел. Словом, он – всякий, в зависимости от обстоятельств, но неизменно цельный в проявлении любого свойства своего широкого характера[80 - Помозов Ю. Блокадная юность. Повесть. Л., 1989. С. 101.].
Такая амбивалентность партийного наставника кажется весьма показательной, если принять во внимание символичность его фигуры: в литературе представители власти могли поступать по-разному, обладать разными темпераментами, находиться на разных должностях, сомневаться, но в конце концов всегда принимать правильное решение.
Классическим примером наставника в произведениях о блокаде можно считать рабочего Королева из романа Чаковского. Королев – старый путиловец, глава заводской партийной организации, командир рабочего ополчения. В романе Чаковского он не просто олицетворяет «ленинскую гвардию» и является для всех (и простых горожан, и партийных руководителей) непреложным авторитетом. Так, на партсобрании накануне нападения Германии на СССР именно Ковалев высказал свои сомнения в верности принимаемых Кузнецовым решений относительно обороны города.
Еще один прием, оставляющий автору известный простор в суждениях о ленинградском партийном руководстве времен блокады, был использован Чаковским посредством введения в сюжет романа как бы вымышленного персонажа в составе городского руководства. Он оставил без изменений имена большинства городских руководителей, но назвал второго секретаря партийной организации Ленинграда Кузнецова Васнецовым. Автор биографии Чаковского Иван Козлов объяснял это тем, что Чаковский таким образом хотел оставить за собой право «свободного обращения» с героем: «Назвав Кузнецова Кузнецовым, <…> он был бы связан с реальностью»[81 - Козлов И. Т. Александр Чаковский. Страницы жизни, страницы творчества. М., 1983. С. 171.]. В то же время, как писал в воспоминаниях Чаковский, «ни сюжет, ни логика событий не потребовали от меня каких-либо отклонений в биографии моего Васнецова от реального А. А. Кузнецова»[82 - Цит. по: Козлов И. Т. Александр Чаковский. С. 172.]. В результате в кинофильме «Блокада», снятом практически сразу после выхода романа, второму секретарю горкома вернули его настоящее имя.
Прибегнув к таким манипуляциям, Чаковский в любой момент мог изменить мнение о работе Ленинградского горкома с положительного на отрицательное и наоборот, не входя в противоречие с возможной линией партии. Вероятно, именно поэтому персонаж Васнецова в первых двух книгах эпопеи довольно противоречив: он описан энергичным, но не прислушивающимся к предостережениям Звягинцева об оборонных рубежах, он уважал Королева, но игнорировал его опасения по поводу действий немцев у границ СССР и т. д.[83 - Чаковский А. Блокада. Кн. 1-я и 2-я. М., 1983. С. 161–169.] И хотя в конечном счете Васнецов оказался положительным персонажем, из текста первых глав романа видно, что автор мог в любой момент переписать характер героя с учетом политической конъюнктуры. «Блокада» Чаковского, став апологией советского руководства, была тепло принята критикой, а последующая экранизация гарантировала этому произведению широкую известность в стране.
Роль наставника в «Блокадной книге» Адамовича и Гранина, произведении, появившемся практически вслед за эпопеей Чаковского, была разделена между интеллигенцией, подававшей пример стойкости для населения города, и ленинградскими градоначальниками. Опубликованная в 1990-х годах запретная глава «Блокадной книги» «Ленинградское дело» не просто воздала почести блокадному руководству города: ее автор, Даниил Гранин, увидел в поведении ленинградского партаппарата задатки независимого мышления, противоположного мышлению кремлевских функционеров[84 - Адамович А., Гранин Д. Блокадная книга. С. 372–378.]. На его взгляд, блокада только подтвердила политическую независимость ленинградцев, чем вызвала нарекания и опасения со стороны кремлевского руководства: «Героизм ленинградской блокады воспринимался сталинским окружением как проявление вольнолюбивого духа, непокорность города, его излишнее, а то и угрожающее самостояние»[85 - Там же. С. 376.].
Если «во взрослой» литературе соцреализма старшим наставником обычно являлся старый рабочий или опытный работник партии с революционным опытом, то в случае, если произведение повествовало о блокадных детях, диапазон возможных наставников был значительно шире. Теоретически таковым мог быть любой сознательный взрослый, но предпочтение все же отдавалось офицерам госбезопасности (как в романе-трилогии Германа Матвеева), директорам детских домов (как в рассказе Веры Пановой «Сергей Иванович и Таня»), милиционерам (как в повести Юрия Германа «Вот как это было») и т. д. Наставники в детских произведениях обычно обладали властью, были опытными и сознательными.
Старший наставник в нарративной структуре советского текста свидетельствовал об инфантильности главного героя, неспособного самостоятельно справиться с общественным заданием. Критика романа «Молодая гвардия» Фадеева, которому инкриминировалось недостаточное освещение роли партии в движении сопротивления, наглядное этому свидетельство. Поэтому патернализм власти по отношению к обществу, как и наставника по отношению к главному герою, в текстах соцреализма представлялся необходимой чертой советской реальности.
Общественное задание
Положительные характеристики главного героя, как правило, раскрывались в процессе описания его активной деятельности во имя выполнения общественной задачи – другого важного условия советского произведения о войне и блокаде. При этом и сама деятельность, и общественное задание могли быть разными. Герои большинства советских произведений о блокаде ловили шпионов, работали на заводах, заботились о детях, трудились в лабораториях и институтах, совершали научные открытия и сражались за город. В целом же общественное задание для населения и защитников Ленинграда в годы войны состояло в том, чтобы не сдаваться.
В советской историографии о блокаде эта текстуальная особенность была принципиально важна – особенно в контексте того, что заслуги Красной армии в ленинградской эпопее оценивались довольно скромно. Авторы таких работ полагали, что Ленинград удерживался в блокаде не по причине того, что немецкое командование не сумело взять его штурмом, а из-за нежелания немецкого руководства входить в город, который не представлял в 1941 году угрозы немецкому наступлению и утратил на время блокады свое значение крупного промышленного центра[86 - Ганценмюллер Й. «Второстепенный театр военных действий»: культуры памяти. Блокада Ленинграда в немецком сознании // Неприкосновенный запас. 2005. № 40/41 (http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/ga34.html).]. Оставив за скобками детали историографического спора о том, какие планы в действительности были у немецкого командования и почему они отменили штурм города, этот момент может быть рассмотрен как проблема, имеющая прямое отношение к фабуле соцреализма. Исходя из этой перспективы, оборона Ленинграда была необходимым для протагониста «общественным заданием», выполнение которого сулило окончательное ритуальное перерождение. Ленинградцы сдержали натиск врага, спасли город, принесли жертву и выполнили важную миссию, возложенную на них страной. Предположение, что такая миссия у горожан могла отсутствовать, кардинально изменило бы общую картину происходящего. Так, запертые в кольце блокады ленинградцы оказывались бы скорее жертвами обстоятельств, а не героями, сознательно жертвующими собой, проходя испытание на прочность.
Постепенно любой труд в блокадном Ленинграде приобрел ореол героического, касался ли он собственно работы на оборонных заводах, научных исследований или написания художественных произведений. Ольга Берггольц писала в «Февральском дневнике»:
И если чем-нибудь могу гордиться,
то, как и все друзья мои вокруг,
горжусь, что до сих пор могу трудиться,
не складывая ослабевших рук.
Горжусь, что в эти дни, как никогда,
мы знали вдохновение труда[87 - Берггольц О. Февральский дневник // Она же. Стихи и поэмы. Л., 1979. С. 211.].
В произведениях военных лет герой должен был выполнить план поставок оружия на фронт, ремонтировать военные суда в срок, спасать раненых, писать научные работы и т. д. Параллельно в связи с катастрофическим ухудшением жизни населения зимой и весной 1941/42 года любая деятельность, включая рутину стояния в очередях, покупку хлеба, заботы о близких и даже само страдание от голода, воспринимается как героическая.
Как писала Вера Инбер в «Пулковском меридиане», «пусть даже наши горести и беды / Являются источником победы»[88 - Инбер В. Пулковский меридиан // Она же. Стихи и поэмы. М., 1957. С. 187.]. Эта поэма, написанная в 1942 году, не скрывала от читателя страшной картины жизни людей, при этом описания блокадных будней были лишь прологом для рассказа о стойкости и героизме блокадного человека: о студентах, продолжавших несмотря на холод готовиться к зачетам, о профессорах, ведущих исследования, о музыкантах, не прекращавших репетиции, о военных и т. д. Таким же образом был построен нарратив о героическом поведении ленинградцев в книге у Адамовича и Гранина: описывая повседневные заботы горожан и условия, в которых они жили, авторы видели героизм в «сохранении человеческого лица» в нечеловеческих условиях – рутина выживания приобретала значение подвига. «Для того чтобы оценить величие подвига ленинградцев, – гласила рецензия на «Блокадную книгу», – нужно представить себе прежде всего всю меру их лишений и утрат»[89 - Эльяшевич А. Горизонтали и вертикали. Л., 1984. С. 80.].
Таким образом, выживание человека в блокаду в послевоенной литературе героизировалось и обретало смысл общественно важного дела, борьбы. Однако такая форма рассказа о блокадном героизме была возможна только в условиях создания реалистичной картины разразившейся в Ленинграде катастрофы, что не всегда отвечало идеологическому заказу. Авторам, избегавшим разговора о тяжелых блокадных условиях, было крайне трудно объяснить, в чем состоял подвиг ленинградцев. Поэтому они, как правило, прибегали к классическим схемам героического нарратива, рассказывая читателям о «привычных подвигах» прифронтовых местностей – тушении пожаров, спасении детей, поимке шпионов, выполнении трудового плана и т. д.
Эта дилемма, вставшая перед авторами, писавшими о блокаде, лишь отчасти отразилась в текстах, рассчитанных на детей, – в них подвиг оставался необходимым условием рассказа. Как и остальная литература военного времени, детские журналы молчали о реальном положении дел в Ленинграда. Поэтому блокадные школьники, образы которых оказывались запечатлены в детских журналах в годы войны, не отличались от остальных советских детей, живших по всей стране. Так, Всеволод Вишневский в очерке «Комсомольцы Ленинграда» в 1943 году рассказывал читателю о том, как школьники ловили ракетчиков на крышах и чердаках, боролись с зажигательными бомбами, заготавливали дрова, выращивали овощи, чинили белье, клеили конверты для писем, обходили квартиры с целью учета оставшихся без присмотра детей[90 - Вишневский В. Комсомольцы Ленинграда // Костер. 1943. № 7. С. 2–3.]. Вишневский комбинировал разные виды «героического»: активного, предполагающего подвиг, и «рутинного», повествующего об ожидаемом от детей поведении в блокаду (какой уж тут героизм – выращивать овощи?). При этом привилегия ловить шпионов и дежурить на крышах отводилась преимущественно мальчикам-старшеклассникам – девочки и ученики младших классов в литературе о блокаде Ленинграда героизировались в меньшей степени. Недостаток «героического» в немногочисленных детских произведениях о блокаде времен войны компенсировался большим количеством послевоенных детей-героев. Так, например, персонажи трилогии о подростках Германа Матвеева помогали разоблачить шпионов[91 - Матвеев Г. И. Зеленые цепочки. М., 1945; Он же. Тайна схватка. М., 1948; Он же. Тарантул. Алма-Ата, 1958.]; герой повести Юрия Помозова тушил зажигательные бомбы на крышах, совершал трудовые подвиги, работая на заводе, спас умирающего друга и разоблачил врага[92 - Помозов Ю. Блокадная юность. Л., 1989.]; блокадные дети из ранних произведений Александра Крестинского, Веры Карасевой и стихов Юрия Воронова все как один соответствовали героическим персонажам соцреализма, напоминая гайдаровского Тимура и молодогвардейцев Фадеева[93 - Крестинский А. А. Мальчики из блокады: Рассказы и повесть. Л., 1983; Карасева В. Е. Кирюшка. Киев, 1965; Воронов Ю. Блокада: Книга стихов. М., 1982.]:
Они добром и словом врачевали,
Бойцы из Бытотряда над Невой.
Ведро воды – и люди вновь вставали.
Пусть говорят, что нет воды живой![94 - Воронов Ю. Блокада. С. 46.]
Таким образом, несмотря на то что канон соцреализма предполагал наличие у протагониста общественной задачи, советские авторы, писавшие о блокаде, по-разному ее конкретизировали. Поэтому, когда одни литераторы рассказывали о подвигах защитников Ленинграда, другим это не препятствовало описывать жизнь людей в катастрофе, преподносимой как акт гражданского мужества. В результате общественная задача блокадного населения, понимаемая ранее как сознательный акт сопротивления врагу, в перестройку перестала конкретизироваться, что и позволило включить в ряды героев не только воевавших и работавших на предприятиях блокадников, но и все жившее в блокаду население города.
Об этом красноречиво свидетельствует история борьбы обществ ленинградских блокадников за социальные привилегии, развернувшаяся в стране в постперестроечный период. «Не считать жертвами войны ныне здравствующих блокадников Ленинграда»[95 - Обращение делегатов 11 съезда блокадников // Петрова Л. Этапы забвения. Заключительная глава к сборнику «Боль памяти блокадной». М., 2005. С. 282.] – так в 2002 году писали президенту Путину, председателю правительства и главам верхней и нижней палаты парламента активисты блокадных организаций России. Собравшиеся на ежегодный съезд блокадников, они протестовали против инициативы российских законодателей, планировавших в это время разработать закон «О жертвах» и отнести блокадников к этой категории наравне с людьми, пострадавшими от стихийных бедствий, войн и советских репрессий. Ленинградские блокадники не хотели признавать себя жертвами войны.
Вопрос о самоопределении группы как героев или как жертв был ключевым для российских блокадников на протяжении всей перестройки и десятилетие после нее. В советском обществе 1970–1980-х годов оборона Ленинграда безоговорочно признавалась героической страницей прошлого, и все жители города, обреченного в войну на голод и лишения, понимались как герои. И хотя большинство выживших в блокаду людей не получало в советское время каких-либо особых привилегий, ленинградцы-блокадники всегда были объектами символических воздаяний, даже если учесть, что в первую очередь это касалось людей, работавших в блокаду на предприятиях города или в госпиталях[96 - Воронина Т., Утехин И. Реконструкция смысла в анализе интервью: тематические доминанты и скрытая полемика // Память о блокаде. Свидетельства очевидцев и историческое сознание общества / Под ред. М. Лоскутовой. М., 2005. С. 252.]. С другой стороны, к началу перестройки наиболее активными представителями блокадного сообщества были люди, пережившие блокаду детьми. Не имея возможности совершать подвиги и не получая от государства материальные привилегии советских героев, в перестройку они могли легче позиционировать себя в качестве жертв войны и политических режимов и предлагать прочтение истории войны не с позиции героя – участника военных действий, а с точки зрения пострадавших свидетелей. Память о Холокосте, ставшая в 1980-х годах основой понимания Второй мировой войны в Европе и за ее пределами и спровоцировавшая появление многочисленных объединений и союзов жертв нацистского, а затем и коммунистического режимов, казалось, могла стать моделью, или «рамками памяти» в терминологии Мориса Хальбвакса[97 - Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. М., 2007. С. 135.], для обществ ленинградских блокадников.
Выбор ветеранами-блокадниками именно героической модели в репрезентации истории блокады, подразумевавшей, что героями нужно считать все население города, оказавшегося в кольце, обусловлен и особенностями борьбы активистов за свои права, и тем способом осмысления блокады, который был предложен соцреалистическим каноном. Как писала И. П. Тетюева в сборнике, изданном обществами блокадников в 2000 году,
у всех переживших блокаду – своя доля ратного труда: воины в ожесточенных боях защищали город, труженики помогали строить оборонительные укрепления и ремонтировали оружие, лечили раненых солдат, спасали город и армию от эпидемий. Они награждены боевой медалью «За оборону Леинграда», получили ее и 11 тыс. школьников. Дети в меру своих возрастных возможностей делали все, что могли, их отметили почетным знаком «Житель блокадного Ленинграда». И все вместе – воины, труженики и дети – одержали Победу[98 - Тетюева И. П. Война, блокада, ленинградские дети // Дети и блокада. Воспоминания, фрагменты дневников, свидетельства очевидцев, документальные материалы. СПб., 2000. С. 22.].
Инициация героя
Дихотомия «сознательного и стихийного» представлялась авторами советских текстов о блокаде в противостоянии положительного и отрицательного героев. При этом антигерой мог быть как внешним, так и внутренним врагом. В литературе о блокаде это выглядело следующим образом. Описание протагониста происходило в сравнении с антигероем, где положительный герой олицетворял сознательное население города, а отрицательный – несознательное. При этом упоминаемые примеры «негероического» поведения сопровождались обильными объяснениями и подчеркиванием исключительности таких явлений. Таким образом поступали авторы «Блокадной книги» при описании краж карточек:
Попадались некоторые истории – неясные, вторичные, – о том, как отнимали хлеб (подростки или мужчины, наиболее страдавшие от мук голода и наименее, как оказалось, выносливые). Но когда начинаешь спрашивать, уточнять, сколько раз, сами ли видели, оказывается, все-таки не очень частые случаи[99 - Адамович А., Гранин Д. Блокадная книга. С. 62.].
Итак, прежде всего говорится о том, что это истории, нехарактерные в целом для блокадного быта. Продолжает тему краж включенное в книгу воспоминание блокадницы о похищениях хлебных «довесочков» в магазине и смешанных чувствах, которые испытывали люди к таким похитителям. Похитителями, со слов авторов «Блокадной книги», чаще всего оказывались дети или подростки, то есть не вполне сознательные советские люди. В рассказанном авторами книги эпизоде пострадавшая женщина не держала зла на укравшего ее хлеб подростка: она просит очередь не расправляться с вором и оправдывает его поведение голодом.