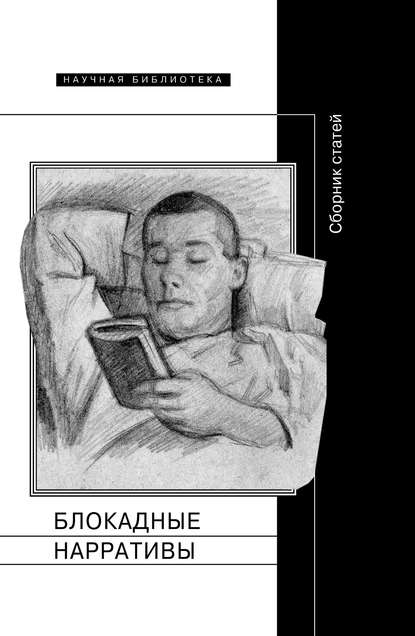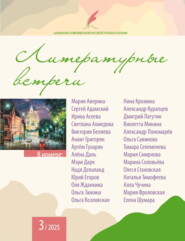По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Блокадные нарративы (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В конце войны обнаружились две противоположные тенденции: одна – мобилизационная инерция военной литературы; другая – возврат к прежним героическим конвенциям. Так, все журналы дружно выступили «против попыток некоторых писателей приукрасить, романтизировать тяжелые будни войны». «Октябрь» напечатал выступление Берггольц на февральском (1944) Пленуме ССП, в котором она осуждала ложно-романтический пафос некоторых рассказов Константина Паустовского (в частности, его «Ленинградской симфонии»)[30 - Октябрь. 1944. № 1/2.]. «“Красивая” неправда о войне» стала объектом множества критических статей. Рецензируя книгу В. Беляева «Ленинградские ночи», Александр Прокофьев критиковал ее за «халтуру, тем более недопустимую, что автор связал ее с темами великого и прекрасного города»[31 - Звезда. 1944. № 4. С. 119.]; Белла Брайнина упрекала Валентина Катаева в идилличности изображения «суровой военной жизни народа»[32 - Брайнина Б. Хрустальная бухта // Знамя. 1944. № 4.]; А. Мацкин требовал покончить с «литературным “кондитерством”» и «мастерами пустяков»[33 - Мацкин А. Об украшательстве и украшателях // Знамя. 1943. № 11/12. С. 287.]; о литературщине, благодушии и «опошлении действительности» писал М. Гельфанд[34 - Гельфанд М. Литературные игры Льва Кассиля // Октябрь. 1943. № 11/12.]. Это была санкционированная властью «борьба с бесконфликтностью и лакировкой», которая всякий раз имела целью ввести население в состояние аффекта. Все это уходило в прошлое, примером чему – судьба «ленинградской темы».
Она оказалась аккумулятором спора. В апреле 1945 года в Ленинградском отделении ССП прошла дискуссия о «ленинградской теме». В ходе этой дискуссии и выявились разнонаправленные векторы в определении верной взвеси «правды о войне». С изменением ситуации меняются и требования к литературе, а с тем – и порог «правды». С одной стороны, продолжают действовать принципы военной литературы; с другой – основные для нее конвенции террористического натурализма заменяются на «мирные» практики контроля и нормализации. В литературе это означало борьбу с «натурализмом» и переход от изображения страданий и ужасов войны к ее эпизации и героизации. Практики стирания опыта сменяются практиками замены его историей/эпосом.
Симптоматично выступление в дискуссии о ленинградской теме Павла Громова, сокрушавшегося о том, что «авторы стараются поразить внимание читателя описанием картин голода и лишений, выпавших на долю ленинградцев», дают «эффектную картину всяческих натуралистически выписанных деталей ленинградского быта. Подлинное искусство всегда чуждалось натурализма». Поэтому нужно «не гоняться за бытовым правдоподобием», а «давать масштабную, обобщающую картину целого», поскольку, утверждал он, читателя и зрителя «интересуют не частности, какими бы эффектными они ни казались, а патетика высоких чувств ленинградца, страсть советского воина, мужество советского человека». Не поняла этого, по мнению Громова, Вера Инбер, которая в своих «Ленинградских дневниках» живописала ужасы блокадной жизни:
К чему эти клинические описания, – риторически вопрошал Громов. – Кому и что они дают? Дело вовсе не в том, чтобы художнику надо было что-то утаивать, – нет. Пиши о чем угодно, но надо, чтобы было обобщение, осмысление событий, а не простое нагромождение ужасающих деталей… В книге нет воздуха эпохи, неизвестно, где, когда, с какими людьми происходят описываемые события. В дневниках Инбер нет истории. Время приходит сюда мелочами быта, «страшными» деталями, а не историческими особенностями психологии советского человека, воспитанного новым социальным строем.
Отчасти Громов был прав: «патетика высоких чувств» была перемещена в «Пулковский меридиан». Но не это имел в виду критик: его атаки на «натурализм» были направлены против самого опыта блокады. Выступая в те же майские дни 1945 года на X Пленуме ССП, Прокофьев в тех же осуждающих тонах говорил о Берггольц, которая в своем «Ленинградском дневнике» «заставила звучать в стихах исключительно тему страдания, связанного с бесчисленными бедствиями граждан осажденного города». Один и тот же дискурс, система аргументов и риторических фигур всплывают в соцреализме всякий раз, когда начинается переход к «эпосу», всегда связанный с изменением порога «правды сущей».
Почти дословно повторяя рассуждения Лидии Поляк о «лирическом эпосе», Громов советовал литераторам
не бояться поэтического обобщения, поэтической условности… больше думать о поэтическом, внутреннем смысле изображаемых явлений. Целью произведения искусства, посвященного ленинградской теме, – учил критик, – должно быть отображение, художественный показ несгибаемого духа ленинградца, противопоставив его вражеской блокаде силу, упорство, самоотверженность, подлинный патриотизм советского человека.
Так ленинградская тема из темы борьбы человека за жизнь (как она трактовалась в годы войны) на глазах превращалась в «тему исторического своеобразия нового человека, способного вынести любые трудности и лишения во имя воодушевляющей его высокой идеи советского патриотизма»[35 - Ленинград. 1945. № 7/8. С. 26–27.].
Когда после войны на первый план вновь выходит производственный роман, тема блокады не просто отходит на задний план под напором литературы о «мирных буднях» и «восстановлении» – она намеренно вымывается из военного нарратива. Показателен в этом смысле коллективный сборник очерков «Ленинградцы» (1947), в котором приняло участие семнадцать ленинградских писателей. В очерках о ленинградцах – партийных работниках, рабочих, инженерах, кораблестроителях, учителях – тема блокады проходит далекой тенью. Если речь (и то лишь в некоторых из них) и идет о войне, то это, как правило, рассказы о «трудовых подвигах». Всякие упоминания о страданиях, голоде, холоде и массовой гибели людей отсутствуют. Книга писалась буквально спустя несколько лет после снятия блокады, когда следы разрушений были еще видны повсюду, а последствия для жителей города, огромная часть населения которого погибла в эти годы, опустошительные. Авторы (а многие из них сами пережили блокаду) писали об этом времени так, как будто речь шла об эпизоде, который можно было едва ли не проигнорировать. Блокада теперь если и упоминалась, то речь шла только об участии жителей в героической обороне города. Тема страданий была табуирована.
Последующий отказ от блокадной темы был связан не только с «ленинградским делом» (репрессии, разгром Музея обороны Ленинграда и т. д.), но и с динамикой репрезентативных стратегий соцреализма после войны, в результате чего военная тема в целом теряет свои суггестивные свойства и приобретает совсем иные функции – монументализации и героизации. Источником этих перемен и была замена Войны на Победу. Последняя, приобретя статус основного легитимирующего события Советской эпохи, привела к тому, что Война стала рассматриваться как процесс и история Победы. Если опыт войны, в котором доминировала далекая от победности тема страданий, обладал низким идеологическим коэффициентом и был опытом травмы, то история Победы была государственным предприятием. Неудивительно, что все связанное с какой-либо партикуляризацией страданий стало в этой проекции неприемлемым – будь то тема Холокоста или Блокады. Сталинизм не признает не только неподконтрольного индивидуального опыта, но и никакого партикуляризма. Лишь в двух случаях он был разрешен, что объяснялось исключительными обстоятельствами войны. И в обоих случаях это закончилось трагически: был уничтожен Еврейский антифашистский комитет и вместе с «Черной книгой» табуирована тема Холокоста; были уничтожены всякие напоминания о блокаде, а сама ленинградская тема закрыта. В обоих случаях субъектами партикулярности оказались не любимые Сталиным евреи и Ленинград. Опыт травмы, то есть собственно опыт войны, утратил язык и более не мог быть репрезентирован. В этом контексте ясно, почему тексты, подобные «Запискам блокадного человека» Лидии Гинзбург, не укладывались о публичный дискурс о Победе и оказались вне публичной сферы.
Блокадная тема прошла последовательную трансформацию. Она родилась на отказе от довоенных героических конвенций, затем погрузилась в своеобразный «лирический натурализм», оксюморонно сочетавший в себе установку на искренность и субъективность с предельно натуралистическим изображением опыта. Когда мобилизационный потенциал литературы более не требовался, блокадная тема покрылась патиной мелодраматической беллетризации в романах Веры Кетлинской «В осаде», Николая Чуковского «Балтийское небо», чтобы полностью смолкнуть на годы. После смерти Сталина началась вторичная лиризация и историзация блокадной темы, вызванная возвратом к опыту и памяти. Процесс этот завершится уже в пост-оттепельную эпоху эпической беллетризацией в «Блокаде» Александра Чаковского, реакцией на которую станет поворот к мемориализации и документализации в «Блокадной книге» Адамовича и Гранина. Наконец, в постсоветскую эпоху в публичное поле входят «Записки блокадного человека» Лидии Гинзбург, а позже «Запретный дневник» Берггольц и множество дневников ленинградцев, где опыту блокады возвращается экзистенциальное измерение, которого в советское время он последовательно был лишен. Этот возврат стал возможен только через разблокирование опыта блокады.
В том самом 1969 году, когда вышла многотомная «Блокада» Чаковского, ставшая монументом историзации блокадного опыта, Александр Твардовский завершил свою последнюю поэму «По праву памяти», запрещенную тогда к публикации. Речь в ней шла о связи опыта и памяти: «Опыт – наш почтенный лекарь, / Подчас причудливо крутой» – единственное, что в состоянии спасти общество от повторения сталинизма. Те же, кто пытается этого не допустить, разрушают «живую память»: «Забыть, забыть велят безмолвно, / Хотят в забвенье утопить / Живую быль. И чтобы волны / Над ней сомкнулись. Быль – забыть!» Образ сомкнувшихся волн не вполне точен: забвение есть активный процесс производства «полезного прошлого» – Истории, в которой умирает Опыт, а с ним – и боль.
Татьяна Воронина
По-советски о блокаде: соцреализм и формирование исторической памяти о ленинградской катастрофе
Большинство опубликованных в СССР произведений о блокаде Ленинграда похожи друг на друга, что может показаться странным, если учесть, что они рассказывают об историческом событии, весьма протяженном во времени и охватывающем разные аспекты той катастрофы, что посетила крупный город. Эта схожесть характерна для литературных текстов, исторических сочинений, кино – словом, для всех направлений индустрии исторической памяти. Предположу, что унифицированное описание блокады было связано не только с внешним давлением, оказываемым на писателей, историков и режиссеров со стороны власти, заинтересованной в получении вполне конкретных выгодных для себя интерпретаций, но и с внутренней логикой нарратива, возникшей в результате доминирования соцреализма в советской культуре.
Размышляя о взаимодействии литературы и исторической памяти, Алейда Ассман использовала понятие «культурного текста»[36 - Assman A. Was sind kulturelle Texte? // Literaturkanon, Medienereignis, kultureller Text: Formen interkultureller Kommunikation und ?bersetzung / Hrsg. Andreas Poltermann. Berlin, 1995. S. 237.]: по ее мнению, литература передает концепты культурной, национальной и религиозной идентичности в той же мере, что и коллективные ценности и нормы. Другими словами, важный для общества литературный текст – это медиум или проводник культурной памяти. Понятие «культурного текста» весьма созвучно идеям Юрия Лотмана, также видевшего в литературе ключ к пониманию традиции. Он писал:
Письменность – форма памяти. Подобно тому как индивидуальное сознание обладает своими механизмами памяти, коллективное сознание, обнаруживая потребность фиксировать нечто общее для всего коллектива, создает механизмы коллективной памяти[37 - Лотман Ю. М. Несколько мыслей о типологии культур // Он же. Языки культуры. М., 1987. С. 3–11.].
Важным отличием «культурного текста» от обычного литературного произведения является значение, приобретаемое этим текстом в обществе. «Культурный текст» всегда ориентирован на широкую группу читателей и всегда тесно связан с идентичностью, разделяемой этой группой[38 - Assman A. Was sind kulturelle Texte? S. 234.]. Это своего рода «место памяти», в терминологии Пьера Нора, создающее вокруг себя неутихающий общественный интерес[39 - Подробно о применении концепции «места памяти» к литературным текстам см.: Lachmann R. Mnemonic and Intertextual Aspects of Literature // Cultural Memory Studies: An International and Interdisciplinary Handbook / Ed. by Astrid Erll, Ansgar N?nning. Berlin; New York, 2008. P. 301.]. Предположу, что для советской культуры такими «культурными текстами» были романы соцреализма, оказавшие наиболее заметное влияние на советскую культуру послевоенного времени и во многом задавшие модус восприятия реальности (в том числе исторической).
Социалистический реализм, официально ставший основным направлением советской литературы после Первого съезда советских писателей в 1934 году, представлял собой целый комплекс норм, регламентирующих эстетику и организацию искусства. Немецкий исследователь Ханс Гюнтер различает три черты соцреалистического канона[40 - G?nther H. Прощание с советским каноном // Revue des еtudes slaves. 2001. T. 73. P. 713–718.]: во-первых, соцреализм предлагает понимать литературный канон как государственный институт; во-вторых, за ним стоят «конкретные художественные нормы, являвшиеся не столько положительными нормативами, сколько негативными запретами»[41 - Ibid. P. 714.]; в-третьих, соцреализм обращался не только к марксистско-ленинистской идеологии, но также включал в себя «глубинные пласты коллективного подсознательного», проявлявшиеся в архаических элементах и мифах. Последний аспект наиболее важен для темы этой статьи, так как именно с ним можно связывать нарративную структуру произведений соцреализма, то есть совокупность повторяющихся из текста в текст элементов, предопределяющих смысл всего произведения.
Соцреализм был призван описывать реальность, как это делал реализм XIX века, но при этом предъявлять ее в «революционном развитии», иными словами, живописать лучшее из того, что уже существует, или воображать то, чего еще нет. При этом, как писал Борис Гройс,
сталинская культура понимает себя <…> в качестве культуры после апокалипсиса, когда окончательный приговор над всей человеческой культурой уже совершился и все разделенное во времени приобрело окончательную единовременность в ослепительном свете Страшного суда, обнаружения последней истины, заключенной в сталинском «Кратком курсе истории ВКП(б)»[42 - Гройс Б. Стиль Сталин // Он же. Утопия и обмен. М., 1993. С. 48.].
Такая надысторичность советского проекта меняла оптику и инструменты в описании советского настоящего. Писатель отныне был не столько творцом (настоящим творцом, преобразующим повседневность, была власть), сколько исполнителем, инструментом по воплощению глобального проекта переустройства мира. На деле это выражалось в том, что советские писатели были ограничены не только в выборе художественных тем, но и в способах их развития.
Если рассматривать соцреализм как особую философскую и эстетическую систему, а соцреалистический канон как корпус текстов, формирующих коллективную идентичность и легитимирующих социальные и политические отношения, то можно предположить, что схожесть советских текстов о блокаде была в значительной мере предопределена[43 - Различным способам взаимоотношения литературы и исторической памяти посвящена статья: Erll A., Nunning A. Where Literature and Memory Meet: Towards a Systematic Approach to the Concepts of Memory Used in Literature Studies // Literature, Literature History and Cultural Memory / Ed. by H. Grabes. T?bingen, 2005. P. 261–294.]. За счет повторения нарративной конструкции читателю задавались смыслообразующие ориентиры, ведь целеполагание было наиважнейшей чертой соцреализма. Как писал Андрей Синявский, размышляя об особенностях революционной литературы,
произведения социалистического реализма весьма разнообразны по стилю и содержанию. Но в каждом из них присутствует понятие Цели в прямом и переносном значении, в открытом или завуалированном выражении[44 - Синявский А. Что такое социалистический реализм. Фрагменты из работы // С разных точек зрения: избавимся от миражей: Соцреализм сегодня. М., 1990. С. 56.].
Самое «целенаправленное искусство современности», впрочем, изначально не предполагало полной унификации, хотя стремление к коммунизму, по мнению Синявского, делало советские произведения теологическими и в высокой степени предсказуемыми. Так, среди обязательных компонентов соцреалистического произведения должен был присутствовать счастливый (с точки зрения борьбы за коммунизм) финал, даже если он предполагал гибель героя. Другая особенность, отмеченная Синявским, заключалась в наличии у соцреалистических произведений общественной задачи:
Задача, выполняемая по ходу сюжета (начали что-то строить – завязка, кончили что-то строить – развязка), изображается как необходимый этап на пути к высшей цели. В таком целенаправленном виде даже чисто технические процессы приобретают напряженный драматизм и могут восприниматься с большим интересом. Читатель постепенно узнает, как, несмотря на все поломки, станок был пущен в дело или как колхоз «Победа», вопреки дождливой погоде, собрал богатый урожай кукурузы, и, закрыв книгу, он с облегчением вздыхает, понимая, что нами сделан еще один шаг к коммунизму[45 - Синявский А. Что такое социалистический реализм. С. 58.].
Еще один подмеченный Синявским элемент заключался в целесообразности исторических процессов и времени. Все исторические произведения, по его мнению, так или иначе были или о том, как приближалось время коммунизма, или о тех, кто его приближал: «И в самых отдаленных веках вдумчивый писатель находит такие явления, которые считаются прогрессивными, потому что они способствовали, в конечном счете, нашим сегодняшним победам»[46 - Там же.]. Наконец, наиболее важная особенность соцреализма, по мнению Синявского, проявилась в особом характере положительного героя: «Положительный герой – это не просто хороший человек, это герой, озаренный светом самого идеального идеала, образец, достойный всяческого подражания, “человеко-гора, с вершины которой видно будущее”»[47 - Там же. С. 60.]. Таким образом, Синявский обозначал «общие места» соцреалистических произведений и объяснял их теологичностью советской литературы в целом.
Еще дальше в изучении структурных особенностей соцреализма пошла Катарина Кларк. Ее интересовали соцреалистические романы, лауреаты Сталинских премий, признанные в советском обществе как образцы художественного текста. Проанализировав их структуру советских соцреалистических романов, она увидела в ней не просто повторяющиеся из романа в роман фабулу и сюжетные ходы (master plot), но и восходящие к архаическим ритуалам основания советской культуры, закрепленные в соцреалистических текстах[48 - Clark K. Soviet Novel: History as Ritual. Chicago: Chicago University Press, 1981. Далее цитирую по русскому изданию: Кларк К. Советский роман: История как ритуал. Екатеринбург, 2002.]. По ее мнению, противостояние «стихийного» и «сознательного» входило в ряд «ключевых бинарных оппозиций», сравнимых «с оппозицией реального/идеального в схоластике или субъекта/объекта в классической немецкой философии»[49 - Там же. С. 27.]. При этом «сознательное» означало «контролируемую, подчиненную дисциплине <…> политическую деятельность», а «стихийность» – активность, «не руководимую политически, спорадическую, некоординированную, даже анархическую <…>, соотносимую скорее с широкими неперсонализированными историческими силами, чем с сознательными действиями»[50 - Там же. С. 23.].
Конфликт сознательного и стихийного, как правило, оказывался в центре любого соцреалистического произведения. Так «стихийное» могли олицетворять бедствия, необузданная природа, внутренние и внешние враги. «Сознательным» в романах соцреализма была партия в лице партячейки или отдельных коммунистов, старшего наставника, коллектива. Главный герой находился в центре противостояния, но в конце концов выбирал сторону «сознательного», что гарантировало роману неизменный счастливый конец. Кларк поясняла:
…сущность соцреализма – это его структурная основа (master plot), которая представляет историю как ритуал. Каждый роман – это аллегория, организованная вокруг сущности марксистско-ленинской версии исторического прогресса, которая закодирована в драму о протагонисте или «положительном герое» и его взаимоотношениях с большой семьей Советского государства[51 - Clark K. Soviet Novel. P. 265.].
Характерно, что эта драма могла разворачиваться не только в художественном романе. Ритуальный характер повторяемых из текста в текст соцреалистических элементов (всегда положительного героя, противостоящего врагу, общественной задачи, старшего наставника, счастливого конца и т. д.) стал важной спецификой повествования о советском прошлом, настоящем и будущем в целом. Master plot соцреалистического романа легко применялся к любому событию, он легитимировал текст и давал ему право на существование в советском публичном пространстве. В то же время такая нарративная схема значительно ограничивала возможности появления новых смыслов и интерпретаций. За этим следили не только ревнители жанра, но и специальная система контроля за писателями[52 - Устройству советского литературного мира и системе контроля за писателями в СССР посвящено исследование Геллер Л., Боден А. Институциональный комплекс соцреализма // Соцреалистический канон / Под ред. Х. Гюнтер и Е. Добренко. СПб., 2000. С. 289–319.]. Поэтому понятие социалистического реализма выходило за рамки творческого метода, о чем неоднократно указывалось в дискуссиях о нем[53 - Соцреалистический канон. СПб., 2000; Socialist Realism without Shores / Ed. by Th. Lahusen, E. Dobrenko. Durham; London, 1997.].
Итак, художественные и исторические произведения о блокаде писались согласно канону соцреализма. Более того, к ним предъявлялись особенно жесткие требования, так как они касались войны – весьма важной темы для обоснования легитимности власти и формирования советской идентичности. Поэтому произведения о блокаде обязаны были учитывать не только нарративную конструкцию соцреалистического романа, но и меняющуюся политическую конъюнктуру[54 - Про особенности создания образа блокады в первые послевоенные десятилетия см.: Zemskov-Z?ge A. Zwischen politischen Strukturen und Zeitzeugenschaft Geschichtsbilder zur Belagerung Leningrads in der Sowjetunion 1943–1953. G?ttingen, 2012.]. Из наиболее успешных произведений со временем был составлен канон, задававший основные ориентиры в описании этого события.
Среди многочисленных советских произведений о блокаде, очевидно, были те, которые завоевали большее признание в обществе, и те, о существовании которых было известно лишь небольшой группе специалистов. Определить место книги в советской иерархии почета было возможно по тиражам и переизданиям, цитируемости, упоминанию на специальных посвященных блокаде мероприятиях, включению в списки для школьного чтения и т. д. К концу существования СССР среди канонических текстов о блокаде были стихи Ольги Берггольц, произведения Веры Инбер, Николая Тихонова, Юрия Воронова, «Блокадная книга» Даниила Гранина и Алеся Адамовича, роман Александра Чаковского «Блокада» и т. д. Среди исторических сочинений стоит упомянуть пятикратно переизданную книгу Дмитрия Павлова «Ленинград в блокаде», сочинение Александра Карасева «Ленинградцы в годы блокады», Геннадия Соболева «Ученые Ленинграда в годы Великой Отечественной войны», Валентина Ковальчука «Ленинград и Большая земля», пятый том «Очерков истории Ленинграда», посвященный блокаде, и некоторые другие сочинения. Все эти книги, написанные в разные годы, к середине 1980-х годов приобрели статус канонических произведений.
Повторяемые из текста в текст структурные элементы включались в тексты о блокаде вне зависимости от их жанра. Для их авторов рамки соцреалистического канона были важнее жанровых и дисциплинарных отличий. Так, первые исторические сочинения о блокаде, например, в большей степени напоминали роман, нежели труд, созданный на основе тщательной работы с источниками[55 - Воронина Т. «Социалистический историзм»: образы ленинградской блокады в советской исторической науке // Неприкосновенный запас. 2013. № 87. С. 140–162.]. Блокада Ленинграда ассоциировалась в обществе с ограниченным набором символов и идей. Среди таких узнаваемых в каждом тексте элементов наиважнейшими были героизм и мужество защитников и жителей города, контрастно подчеркнутые рассказами о разрухе, страдании и голоде. И хотя блокадный подвиг в разное время понимался в советском обществе по-разному, а описание катастрофы детализировалось в большей или меньшей степени, основная мысль любого повествования всегда оставалась неизменной. Блокада во всех текстах была «героической страницей в истории Великой Отечественной войны» и ценным источником для создания положительной ленинградской/советской идентичности.
Неподцензурная блокадная литература – стихи Геннадия Гора, Павла Зальцмана, большинство произведений Лидии Гинзбург, как и вообще большинство блокадных дневников, – долгое время оставались совершенно неизвестны читающей публике и были опубликованы относительно недавно[56 - Юрьев О. День снятия блокады: Блокадный текст русской поэзии: Гор и Зальцман // Журнал Олега Юрьева. Новая камера хранения. Стихотворный отдел (http://www.newkamera.de/blogs/oleg_jurjew/?p=1470); Ван Баскирк Э. Личный и исторический опыт в блокадной прозе Лидии Гинзбург // Гинзбург Л. Я. Проходящие характеры: проза военных лет. Записки блокадного человека. М., 2011. С. 506–530.]. В СССР об этих текстах почти никто не знал. И хотя большинство этих произведений было написано в годы блокады, они стали культурным феноменом не советской, но уже постсоветской литературы. Скрытые от читателя, они не могли повлиять на сформированный в советской культуре образ блокады. Кроме того, запечатленное в них восприятие блокады не соответствовало описаниям блокадного опыта в советском каноне.
В то же время нельзя сказать, что тексты, даже написанные с соблюдением канона и включавшие все необходимые элементы, были полностью идентичны друг другу. Символы и образы со временем дополнялись и видоизменялись в зависимости от таланта писателя, степени свободы, благосклонности к нему цензурных органов и т. д. Это хорошо заметно на фоне важной для блокадной темы метафоры блокадного подвига. Многократно описанный в обширной советской литературе о блокаде, долгое время он связывался исключительно с событиями на фронтах, но в какой-то момент приобрел самостоятельное значение. Как писал Даниил Гранин, «официальная картина блокады могла как-то подойти к заслугам Ленинградского фронта, но горожане, они-то жили и умирали по другим законам»[57 - Гранин Д. О блокаде // Тайный знак Петербурга. СПб., 2000. С. 140.].
Осознание исключительности ленинградского подвига и особенная стратегия рассказа о нем в советских текстах появились не сразу. Первоначально, в годы войны, описание этого подвига соответствовало общим правилам и не выделялось на фоне других фронтовых ситуаций. Так, подвиг блокадного человека изначально подразумевал вооруженную борьбу с врагами, работу на производстве или полезную деятельность внутри города, зачастую связанную с риском для жизни. Трудовой подвиг приравнивался к военному. Не случайно медаль «За оборону Ленинграда» вручали не только военнослужащим, но и людям, трудившимся на ленинградских предприятиях. Характерен в этом смысле рассказ Николая Тихонова «Зимней ночью», где речь идет о старике-слесаре, который смог спокойно умереть только после того, как обучил жену работе на станке[58 - Тихонов Н. Зимней ночью // Он же. Собрание сочинений: В 7 т. М., 1985. Т. 3. С. 240–242.].
Постепенно под блокадным подвигом стали понимать жизнь людей в городе в целом. Как писал об этом критик Аркадий Эльяшевич,
они [ленинградцы. – Т.В.] не только выстояли, не только защитили город, но и открыли в себе такие душевные чувства, которые им самим были неведомы. И недаром теперь, по прошествии многих лет, ленинградцы судят о людях по тому, как они себя проявляли в блокаду. Неписаные блокадные характеристики! Нет более авторитетных и надежных свидетельств, чем они[59 - Эльяшевич А. Горизонтали и вертикали. Современная проза – от семидесятых к восьмидесятым. Л., 1984. С. 90.].
Таким образом, постепенно подвиг ленинградцев стал пониматься в категориях морали (герой поступил по совести, несмотря на сложные жизненные ситуации), а не общественно полезной деятельности. Именно поэтому в число героев-блокадников постепенно попали не только трудоспособные труженики ленинградских предприятий, но также старики и дети.
Итак, несмотря на жесткие рамки цензуры и соцреалистического канона, в литературе находилось место таким интерпретациям, которые обогащали историю блокады новыми смыслами. Но даже в этом случае они форматировались внутри нарративной схемы. В результате к началу перестройки советские люди знали о страшном голоде в Ленинграде, о случаях каннибализма, об очередях и несправедливостях в отношении блокадников, но это никак не сказывалось на выводах о героизме горожан, роли партии в победе, оправданности принесенных жертв и стратегическом смысле обороны города.
Однако рассмотрим подробнее, какие именно структурные элементы соцреализма присутствовали в советских текстах о блокаде, как они менялись со временем и каким образом воздействовали на понимание общего смысла блокады как исторического события. Для этого отберем наиболее значимые для советского дискурса (то есть известные в СССР, издаваемые большими тиражами и становящиеся образцами для других текстов) произведения о блокаде и взглянем на них через призму характерной для соцреализма нарративной конструкции, описанной в работе Катарины Кларк на примере соцреалистических романов.
Положительный герой
В советской официальной литературе о войне и блокаде обязательно присутствовал положительный герой, биография которого должна была воплощать стадии развития советского общества[60 - Кларк К. Советский роман. С. 18.]. Сам герой при этом олицетворял народ – истинного героя всех произведений. Позитивные характеристики в текстах он приобретал благодаря эпитетам, маркирующим его особым образом, и посредством описания сцен и ситуаций, подчеркивающих его лучшие качества. Литература о войне и блокаде демонстрировала эту особенность наилучшим образом – достаточно вспомнить любое советское произведение на эту тему, будь то поэтические произведения Ольги Берггольц или Юрия Воронова, проза Веры Кетлинской, Николая Тихонова, Александра Фадеева, Александра Чаковского, Алеся Адамовича и Даниила Гранина и многих других.
Принципиальной для соцреализма характеристикой протагониста было его социальное происхождение. Поэтому в сороковых и начале пятидесятых годов положительные герои произведений о блокаде трудились на заводах и фабриках. Такова, например, героиня романа «В осаде» Веры Кетлинской, работающая в блокаду на заводе[61 - Кетлинская В. В осаде. М., 1949.]. В романе Чаковского «Блокада» (образце классического соцреализма в позднесоветской литературе) герой Звягинцев – также выходец из семьи уральских рабочих, а его романная подруга Вера родилась в семье путиловца[62 - Чаковский А. Блокада: В 5 кн. М., 1968–1974.].
В более позднее время социальные корни литературных протагонистов перестали играть важную роль, намного важнее стало наличие у героя «ленинградской души», под которой понималось не только следование революционным традициям петербургского пролетариата, но и особая интеллигентность, как у героев «Блокадной книги» Адамовича и Гранина[63 - Адамович А., Гранин Д. Блокадная книга. СПб., 1994.]. Впрочем, описание протагонистов-интеллигентов встречалось и в рассказах более раннего периода. Такие персонажи были в «Ленинградских рассказах» Николая Тихонова («Низами», «Яблоня»), в блокадных стихах Веры Инбер («Дневной концерт») и т. д.[64 - Тихонов Н. Ленинградские рассказы. Л., 1977; Инбер В. Собрание сочинений: В 4 т. М., 1965. Т. 1.], но именно авторы позднего советского времени чаще всего описывали интеллигентов как характерных ленинградцев. В монографии о блокаде Дмитрий Павлов также описывает подвиг сотрудников Института растениеводства, сохранивших в блокаду ценную коллекцию семян. На основе этого он делает вывод: «Поведение ленинградцев во время блокады в условиях невероятных лишений и острого голода было на высоком моральном уровне. Люди вели себя стоически, гордо, сохраняя до последней минуты жизни цельность человеческой личности»[65 - Павлов Д. Ленинград в блокаде. 1941. М., 1967. С. 155.].
В СССР была чрезвычайно распространена литература, рассказывавшая о блокадном детстве. При этом в зависимости от читателя (взрослого или ребенка) образ блокадного ребенка был разным. В большинстве детских книг юные ленинградцы помогали взрослым в выполнении важных общественных заданий и наравне со взрослыми боролись с врагами. Они были полноценными героями, совершавшими подвиги[66 - Дружинин В. Мировой бригадир // Костер. 1942. № 11/12. С. 16–17; Карасева В. Маленькие ленинградцы. М., 1969; Матвеев Г. Зеленые цепочки. М., 1945; Он же. Тайная схватка. Л., 1948; Он же. Тарантул. Алма-Ата, 1958.]. Иногда авторы, увлеченные героизацией протагонистов, приписывали эти свойства даже животным. Например, в рассказе Александра Розена «Фрам», опубликованном в журнале «Костер» в 1942 году, собака являлась настоящим героем, совершающим подвиг и демонстрирующим абсолютную сознательность: она возила обессиленного хозяина на работу и обратно[67 - Розен А. Фрам // Костер. 1942. № 5/6. С. 6–9.].
Наряду с этим образом советским читателям был известен и такой, в котором блокадный ребенок был беззащитен, несознателен и требовал заботы и опеки[68 - Герман Ю. Вот как это было. М., 1985; Панова В. Сергей Иванович и Таня. М., 1983; Адамович А., Гранин Д. Блокадная книга.]. В силу возраста он не мог быть абсолютным героем на войне, поэтому в произведениях соцреализма ему было позволено несовершенство. Описывая юного протагониста хрупким, авторы, не разрушая канона, рассказывали о такой грани блокадной повседневности, обращение к которой в других обстоятельствах было бы недопустимым. Метафора «большой семьи», где протагонист представал в роли сына (ребенка), нуждающегося в советах опытного наставника – взрослого (в лице партии или Сталина), лишь подчеркивала общественную и политическую иерархию[69 - Кларк К. Советский роман. С. 30.]. Поэтому кажется закономерным то обстоятельство, что героинями фильма Виктора Эйсымонта, рассказывавшего о жизни блокадного Ленинграда и снятого в 1944 году, были девочки пяти и семи лет, а не совершавшая подвигов Таня Савичева в позднесоветские годы вообще стала самым известным жителем блокадного города[70 - Миксон И. Жила, была… Историческое повествование. Л., 1991; Яковлев Ю. Девочки с Васильевского острова. М., 1978; Смирнов С. Таня Савичева // Венок славы. Антология художественных произведений о Великой Отечественной войне: В 12 т. Т. 3. Подвиг Ленинграда. М., 1983. С. 297–300.].
В исторических сочинениях советский народ также фигурировал как главный положительный герой. В «больших» исторических нарративах он распадался на войсковые части, рабочие коллективы, служащих предприятий; в некоторых случаях описывались и отдельные персонифицированные герои. Так, авторы главы о первой блокадной зиме в коллективной исторической монографии «Непокоренный Ленинград» описывали героическое поведение рабочих хлебозаводов, поддерживавших бесперебойную выпечку хлеба, рассказывали о дружинницах МПВО и включили цитату из дневника рабочего Кировского завода Н. Ф. Балясникова, обещавшего «умереть, но не пустить врага»[71 - Непокоренный Ленинград. Л., 1985. С. 111.].
Нередко главными героями произведений становились советские политические лидеры, такие как Киров из поэмы Николая Тихонова «Киров с нами» (1941) или Ленин из стихотворения Бориса Лихарева «Ленинский броневик» (1942). В этом случае протагонист обладал идеальными качествами и освящал своим присутствием место действия. Так, поэма «Киров с нами» долгое время оставалась примером художественного прочтения блокады. В 1942 году она получила Сталинскую премию. Сюжет поэмы прост: легендарный ленинградский градоначальник и герой Гражданской войны Сергей Киров обходит блокированный Ленинград и наблюдает за его обороной. По пути он всматривается в лица ленинградцев: матроса, рабочего Кировского завода, дружинницу, вызволявшую людей из завалов, и старика красноармейца. Все они усердно трудятся и сражаются, выполняя свой долг. В заключение Киров, а вместе с ним автор поэмы убеждаются в том, что город не будет сдан, так как жители почитают традиции революционного Петрограда[72 - Тихонов Н. Киров с нами // Он же. Стихотворения и поэмы. М., 1984. С. 350–354.].