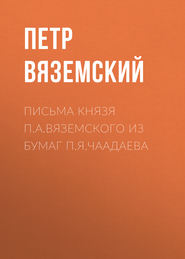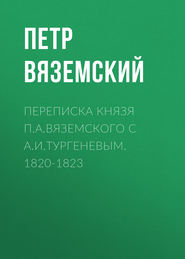По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Старая записная книжка. Часть 1
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
1825
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Крадется он исподтишка
В круг блестящий и большой.
Надобно же иметь такую несчастную память, как я имею, чтобы удержать в ней, за многими десятками лет, подобную дрянь. А между тем, как ни пошлы, ни безграмотны эти стихи, они жадно переписывались сотнями рук, как поздние стихи Пушкина и Грибоедова. Злость и ругательства имеют всегда соблазнительную прелесть в глазах почтеннейшей публики.
Бывали, впрочем, в этом роде попытки более удачные и замысловатые. Например, ходила по рукам программа министерского концерта, в начале царствования Александра I. Каждый сановник пел какую-нибудь известную песню. Один:
Винят меня в народе.
Другой, угрожаемый отставкою:
Я в пустыню удаляюсь
Из прекрасных здешних мест.
Третий, который неоднократно менял место служения:
Мне моркотно молоденьке,
Нигде места не найду.
Военный министр:
Всяк в своих желаньях волен.
Лавры, вас я не ищу!
Морской:
Выйду я на реченьку,
Посмотрю на быструю.
Унеси ты мое горе,
Быстра реченька с собой.
Министр финансов:
Доволен я судьбой
И милою богат:
О, Лиза, кто с тобою
И бедности не рад?
Министр просвещения:
Ночною темнотою
Покрылись небеса,
Все люди для покою
Сомкнули уж глаза.
И так далее. Все это было забавно, а не грубо и не обидно. Сами осмеянные, если были они умны (в чем грешно было бы сомневаться), могли смеяться вместе с насмешниками и публикой.
Когда Дмитриев был назначен министром юстиции, какой-то забавник, ссылаясь на стих одной из басен его:
И выбрал добрых псов,
выпустил стихотворение, к нему обращенное и кончающееся стихом:
Так будь же добр и ты, когда попал в собаки.
Помнится мне также песнь, слышанная мной в детстве, о шведском адмирале, который в царствование императрицы Екатерины был взят в плен и прислан в Москву. Он является на бал в вокзале, которого содержатель, или тогдашний Иван Иванович Излер, был Медокс. Около пленника вьются московские барыни и, сколько помнится, они довольно остроумно и забавно обрисованы.
Бывали шутки и в прозе, и в действии. В первых годах столетия, на гулянье 1-го Мая, в Сокольниках, появилась лошадь в очках, с надписью крупными буквами на лбу: только трех лет. Это насмешка над тогдашней модой, которая и молодых людей наряжала в очки: до того времени они были принадлежностью одних стариков. Карамзин, еще в 1796 году, выставляет волокиту, жертву любви:
Взгляните на меня: я в двадцать лет старик;
Смотрю в очки, ношу парик.
Теперь это никого бы не удивило. В наше время близорукость и плешивость очень распространились и сделались популярны.
* * *
Память – клубок, который, только что до него дотронешься, разматывается сам собою. Очки пробудили во мне воспоминание о двоестишии, которое нашел я, когда рылся в русских старых книгах. Напал я на собрание стихотворений какого-то князя Голицына: имени его не припомню; но был он, вероятно, очень курнос, и вот тому поличное. Из всего тома, довольно объемистого, отметил я только два следующие стиха:
И рад бы я очки иметь,
Да не на что надеть.
Позднее, видал я в Московском Английском клубе князя Голицына, который подходил под эту примету: носа у него почти совсем не было. Часто порывался я спросить его, не он ли автор двух помянутых стихов; но совестливость удерживала меня от нескромного вопроса. Он, по-видимому, держался старого благочиния. Когда пудра была уже в изгнании, сохранившейся остаток волос его (отчего нет у нас слова chevelure?) был всегда тщательно и набело напудрен. Панталоны и сапоги давно уже выгнали коротенькие штаны и башмаки с пряжками; но его не переуверили они, и даже в клубе являлся он маркизом прошлого столетия. Странное дело, никогда в клубе не видал я его ни за обеденным столом, ни за карточным; никогда не видал я, чтобы он с кем-нибудь разговаривал. Зачем же ездил он в клуб? Как теперь рисуется он мне, в задней комнате, один, греющийся зимою у печки. Мимо него многие проходили; но им было не до него. Довершить ли мои следственные справки? Не тем будь он помянут, а прозвище его было: князь-моська; а такое прозвище, говорили, было дано ему потому, что он любил кушать жареные моськи.
Что же, тут греха и бесчестия нет: были бы только моськи по вкусу. Рассказывали, что во время кругосветного плавания, командир корабля, на котором находился граф Толстой, приказал бросить в море обезьяну, которую тот держал при себе. Но Толстой протестовал и просил командира позволить ему зажарить ее и съесть. Впрочем, Толстой всегда отвергал правдивость этого рассказа.
Встречались у нас, хотя и редко, сатирические объявления и в газетах. Кажется, М. Ф. Орлов, в ранней молодости, где-то на бале танцевал не в такт. Вскоре затем явилось в газете, что в такой-то вечер был потерян такт и что приглашают отыскавшего его доставить, за приличное награждение, в такую-то улицу и в такой-то дом. Последствием этой шутки был поединок и, как помнится, именно с князем Сергеем Сергеевичем Голицыным.
А вот жемчуг печатных проказ и злости. Был когда-то молодой литератор, который очень тяготился малым чином своим и всячески скрывал его. Хитрый и лукавый Воейков подметил эту слабость. В одной из издаваемых им газет печатает он объявление, что у такого-то действительного статского советника, называя его полным именем, пропала собака, что просят возвратить ее и так далее, как обыкновенно бывает в подобных объявлениях. В следующем No является исправление допущенной опечатки. Такой-то – опять полным именем – не действительный статский советник, а губернский секретарь. Пушкин восхищался этой проделкою и называл ее лучшим и гениальным сатирическим произведением Воейкова.
* * *
Мы говорили выше о веселом обществе Галера. Василий Львович Пушкин был в нем запевалом. Вот, отысканный в старых бумагах, первый куплет песни, пропетой им в последний день масленицы:
Плыви, Галера! веселися,
К Лиону в маскарад пустися.
Один остался вечер нам!
Там ждут нас фрау-баронесса,
И сумасшедшая повеса,
И Лиза Карловна уж там.
Веселое, молодое время! Любезный поэт Опасного Соседа тогда не говорил: «Ох, дайте отдохнуть и с силами собраться».
Тогда он не думал и не хотел отдыхать, а с ним и все поколение его. С силами собираться было нечего: силы были все налицо – свежие, кипучие. Вносим все это в поминки свои, в грешные поминки! Но в свое время все это было, жило, двигалось, вертелось, радовалось, любило, пило, наслаждалось; иногда, вероятно, грустило и плакало. Все эти люди, весельчаки, имели утро свое, полдень свой и вечер; теперь все поглощены одною ночью. Почему ночному караульщику не осветить мимоходом эту ночь, не помянуть живым словом почивших на ее темном и молчаливом лоне? Почему мельком, на минуту, не собрать эти давно забытые, изглаженные черты? Не расцветить их, не дать им хоть призрак прежнего облика и выражения? Почему не перелить в один строй, в один напев, эти разлетевшиеся звуки и отголоски, давно умолкнувшие?
Но от них никакой пользы и прибыли не будет. Не спорю. Но и от сновидения ничего не дождешься; а все же, как-то приятно проснуться под впечатлением приснившегося отрадного и улыбчивого сна. Почему, наконец, не помянуть и неизвестную нам Лизу Карловну, puisque Лиза Карловна il у a ou il у а eu! (Которая что есть, то есть.) Шиллер обессмертил же в своем Wallensteins Lager красавицу из пригородка, близ Дрездена: Was! der Blitz! Das ist die Gustel aus Blasewitz.
В пятидесятых годах еще доказывали путешественникам эту Gustel, которая в молодости тронула сердце поэта, но без успеха для него, так что, по иным рассказам, он упрятал ее в стих более с сердцов и злопамятства. Василий Львович, разумеется, далеко не Шиллер; но зато можно заключить из доброты его, что если он упомянул о Лизе Карловне, то, наверное, из благодарности.
Все эти выше разбросанные заметки, куплеты, газетные объявления и так далее, сами по себе малозначительны, взятые отдельно; но в совокупности они имеют свой смысл и внутреннее содержание. Все это отголоски когда-то живой речи, указатели, нравственно-статистические таблицы и цифры, которые знать не худо, чтобы проверить итоги минувшего. Мы все держимся крупных чисел, крупных событий, крупных личностей: дроби жизни мы откидываем; но надобно и их принимать в расчет.
Французы изобилуют сборниками подобных мелочей. Историки их пользуются ими; а потому история их оживленнее, люднее, нежели другие. Они не пренебрегают ссылаться на современные песни, сатиры, эпиграммы. Один подобный рукописный сборник, известный под именем Maurepas, хранится бережно в государственном архиве, в многотомных фолиантах. Можно сказать, что все царствование Людовика XV переложено на песенник.
Известный Храповицкий оставил после себя большую рукопись, в которой собраны были многие любопытные и неудобопечатаемые, по крайней мере, в то время, случайные и карманные, более или менее сатирические стихотворения. Тут и важный Ломоносов был вкладчиком с одою к бороде, или о бороде (одою, вовсе непохожею на другие торжественные и официальные оды его). Были тут и сатиры и куплеты князя Дмитрия Горчакова, сказки, довольно скоромные, Александра Семеновича Хвостова и, помнится, Карабанова, переводчика Вольтеровой «Альзиры». Находилось и стихотворение, которое можно было, по складу и блеску, приписать Державину. Помню из него два стиха, и то не вполне.
Когда Таврическая ночь
Брала себе… на лоно…
Было тут несколько исторических эпиграмм, бойких и едких. Являлся тут со стихами своими и какой-то Панцер-битер – имя, кажется, не поддельное, а настоящее. Кто теперь знает, что был у нас поэт Панцербитер? Где эта рукопись? Вероятно, сгорела она в московском пожаре 12-го года. По крайней мере, все попытки отыскать ее оказались напрасными. На всякий случай здесь изложена явочная пометка о пропавшей без вести. В «Вестнике Европы», издании Жуковского, было напечатано нисколько эпиграмм, взятых из этого сборника и, разумеется, позволительных и целомудренных.
* * *
В круг блестящий и большой.
Надобно же иметь такую несчастную память, как я имею, чтобы удержать в ней, за многими десятками лет, подобную дрянь. А между тем, как ни пошлы, ни безграмотны эти стихи, они жадно переписывались сотнями рук, как поздние стихи Пушкина и Грибоедова. Злость и ругательства имеют всегда соблазнительную прелесть в глазах почтеннейшей публики.
Бывали, впрочем, в этом роде попытки более удачные и замысловатые. Например, ходила по рукам программа министерского концерта, в начале царствования Александра I. Каждый сановник пел какую-нибудь известную песню. Один:
Винят меня в народе.
Другой, угрожаемый отставкою:
Я в пустыню удаляюсь
Из прекрасных здешних мест.
Третий, который неоднократно менял место служения:
Мне моркотно молоденьке,
Нигде места не найду.
Военный министр:
Всяк в своих желаньях волен.
Лавры, вас я не ищу!
Морской:
Выйду я на реченьку,
Посмотрю на быструю.
Унеси ты мое горе,
Быстра реченька с собой.
Министр финансов:
Доволен я судьбой
И милою богат:
О, Лиза, кто с тобою
И бедности не рад?
Министр просвещения:
Ночною темнотою
Покрылись небеса,
Все люди для покою
Сомкнули уж глаза.
И так далее. Все это было забавно, а не грубо и не обидно. Сами осмеянные, если были они умны (в чем грешно было бы сомневаться), могли смеяться вместе с насмешниками и публикой.
Когда Дмитриев был назначен министром юстиции, какой-то забавник, ссылаясь на стих одной из басен его:
И выбрал добрых псов,
выпустил стихотворение, к нему обращенное и кончающееся стихом:
Так будь же добр и ты, когда попал в собаки.
Помнится мне также песнь, слышанная мной в детстве, о шведском адмирале, который в царствование императрицы Екатерины был взят в плен и прислан в Москву. Он является на бал в вокзале, которого содержатель, или тогдашний Иван Иванович Излер, был Медокс. Около пленника вьются московские барыни и, сколько помнится, они довольно остроумно и забавно обрисованы.
Бывали шутки и в прозе, и в действии. В первых годах столетия, на гулянье 1-го Мая, в Сокольниках, появилась лошадь в очках, с надписью крупными буквами на лбу: только трех лет. Это насмешка над тогдашней модой, которая и молодых людей наряжала в очки: до того времени они были принадлежностью одних стариков. Карамзин, еще в 1796 году, выставляет волокиту, жертву любви:
Взгляните на меня: я в двадцать лет старик;
Смотрю в очки, ношу парик.
Теперь это никого бы не удивило. В наше время близорукость и плешивость очень распространились и сделались популярны.
* * *
Память – клубок, который, только что до него дотронешься, разматывается сам собою. Очки пробудили во мне воспоминание о двоестишии, которое нашел я, когда рылся в русских старых книгах. Напал я на собрание стихотворений какого-то князя Голицына: имени его не припомню; но был он, вероятно, очень курнос, и вот тому поличное. Из всего тома, довольно объемистого, отметил я только два следующие стиха:
И рад бы я очки иметь,
Да не на что надеть.
Позднее, видал я в Московском Английском клубе князя Голицына, который подходил под эту примету: носа у него почти совсем не было. Часто порывался я спросить его, не он ли автор двух помянутых стихов; но совестливость удерживала меня от нескромного вопроса. Он, по-видимому, держался старого благочиния. Когда пудра была уже в изгнании, сохранившейся остаток волос его (отчего нет у нас слова chevelure?) был всегда тщательно и набело напудрен. Панталоны и сапоги давно уже выгнали коротенькие штаны и башмаки с пряжками; но его не переуверили они, и даже в клубе являлся он маркизом прошлого столетия. Странное дело, никогда в клубе не видал я его ни за обеденным столом, ни за карточным; никогда не видал я, чтобы он с кем-нибудь разговаривал. Зачем же ездил он в клуб? Как теперь рисуется он мне, в задней комнате, один, греющийся зимою у печки. Мимо него многие проходили; но им было не до него. Довершить ли мои следственные справки? Не тем будь он помянут, а прозвище его было: князь-моська; а такое прозвище, говорили, было дано ему потому, что он любил кушать жареные моськи.
Что же, тут греха и бесчестия нет: были бы только моськи по вкусу. Рассказывали, что во время кругосветного плавания, командир корабля, на котором находился граф Толстой, приказал бросить в море обезьяну, которую тот держал при себе. Но Толстой протестовал и просил командира позволить ему зажарить ее и съесть. Впрочем, Толстой всегда отвергал правдивость этого рассказа.
Встречались у нас, хотя и редко, сатирические объявления и в газетах. Кажется, М. Ф. Орлов, в ранней молодости, где-то на бале танцевал не в такт. Вскоре затем явилось в газете, что в такой-то вечер был потерян такт и что приглашают отыскавшего его доставить, за приличное награждение, в такую-то улицу и в такой-то дом. Последствием этой шутки был поединок и, как помнится, именно с князем Сергеем Сергеевичем Голицыным.
А вот жемчуг печатных проказ и злости. Был когда-то молодой литератор, который очень тяготился малым чином своим и всячески скрывал его. Хитрый и лукавый Воейков подметил эту слабость. В одной из издаваемых им газет печатает он объявление, что у такого-то действительного статского советника, называя его полным именем, пропала собака, что просят возвратить ее и так далее, как обыкновенно бывает в подобных объявлениях. В следующем No является исправление допущенной опечатки. Такой-то – опять полным именем – не действительный статский советник, а губернский секретарь. Пушкин восхищался этой проделкою и называл ее лучшим и гениальным сатирическим произведением Воейкова.
* * *
Мы говорили выше о веселом обществе Галера. Василий Львович Пушкин был в нем запевалом. Вот, отысканный в старых бумагах, первый куплет песни, пропетой им в последний день масленицы:
Плыви, Галера! веселися,
К Лиону в маскарад пустися.
Один остался вечер нам!
Там ждут нас фрау-баронесса,
И сумасшедшая повеса,
И Лиза Карловна уж там.
Веселое, молодое время! Любезный поэт Опасного Соседа тогда не говорил: «Ох, дайте отдохнуть и с силами собраться».
Тогда он не думал и не хотел отдыхать, а с ним и все поколение его. С силами собираться было нечего: силы были все налицо – свежие, кипучие. Вносим все это в поминки свои, в грешные поминки! Но в свое время все это было, жило, двигалось, вертелось, радовалось, любило, пило, наслаждалось; иногда, вероятно, грустило и плакало. Все эти люди, весельчаки, имели утро свое, полдень свой и вечер; теперь все поглощены одною ночью. Почему ночному караульщику не осветить мимоходом эту ночь, не помянуть живым словом почивших на ее темном и молчаливом лоне? Почему мельком, на минуту, не собрать эти давно забытые, изглаженные черты? Не расцветить их, не дать им хоть призрак прежнего облика и выражения? Почему не перелить в один строй, в один напев, эти разлетевшиеся звуки и отголоски, давно умолкнувшие?
Но от них никакой пользы и прибыли не будет. Не спорю. Но и от сновидения ничего не дождешься; а все же, как-то приятно проснуться под впечатлением приснившегося отрадного и улыбчивого сна. Почему, наконец, не помянуть и неизвестную нам Лизу Карловну, puisque Лиза Карловна il у a ou il у а eu! (Которая что есть, то есть.) Шиллер обессмертил же в своем Wallensteins Lager красавицу из пригородка, близ Дрездена: Was! der Blitz! Das ist die Gustel aus Blasewitz.
В пятидесятых годах еще доказывали путешественникам эту Gustel, которая в молодости тронула сердце поэта, но без успеха для него, так что, по иным рассказам, он упрятал ее в стих более с сердцов и злопамятства. Василий Львович, разумеется, далеко не Шиллер; но зато можно заключить из доброты его, что если он упомянул о Лизе Карловне, то, наверное, из благодарности.
Все эти выше разбросанные заметки, куплеты, газетные объявления и так далее, сами по себе малозначительны, взятые отдельно; но в совокупности они имеют свой смысл и внутреннее содержание. Все это отголоски когда-то живой речи, указатели, нравственно-статистические таблицы и цифры, которые знать не худо, чтобы проверить итоги минувшего. Мы все держимся крупных чисел, крупных событий, крупных личностей: дроби жизни мы откидываем; но надобно и их принимать в расчет.
Французы изобилуют сборниками подобных мелочей. Историки их пользуются ими; а потому история их оживленнее, люднее, нежели другие. Они не пренебрегают ссылаться на современные песни, сатиры, эпиграммы. Один подобный рукописный сборник, известный под именем Maurepas, хранится бережно в государственном архиве, в многотомных фолиантах. Можно сказать, что все царствование Людовика XV переложено на песенник.
Известный Храповицкий оставил после себя большую рукопись, в которой собраны были многие любопытные и неудобопечатаемые, по крайней мере, в то время, случайные и карманные, более или менее сатирические стихотворения. Тут и важный Ломоносов был вкладчиком с одою к бороде, или о бороде (одою, вовсе непохожею на другие торжественные и официальные оды его). Были тут и сатиры и куплеты князя Дмитрия Горчакова, сказки, довольно скоромные, Александра Семеновича Хвостова и, помнится, Карабанова, переводчика Вольтеровой «Альзиры». Находилось и стихотворение, которое можно было, по складу и блеску, приписать Державину. Помню из него два стиха, и то не вполне.
Когда Таврическая ночь
Брала себе… на лоно…
Было тут несколько исторических эпиграмм, бойких и едких. Являлся тут со стихами своими и какой-то Панцер-битер – имя, кажется, не поддельное, а настоящее. Кто теперь знает, что был у нас поэт Панцербитер? Где эта рукопись? Вероятно, сгорела она в московском пожаре 12-го года. По крайней мере, все попытки отыскать ее оказались напрасными. На всякий случай здесь изложена явочная пометка о пропавшей без вести. В «Вестнике Европы», издании Жуковского, было напечатано нисколько эпиграмм, взятых из этого сборника и, разумеется, позволительных и целомудренных.
* * *