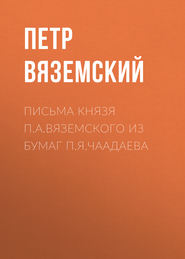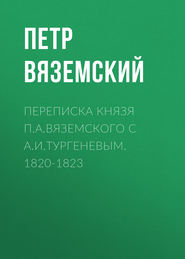По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Старая записная книжка. Часть 1
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
1825
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Как есть ум и умничанье: так есть либерализм и либеральничанье. Дай нам Бог поболее ума и поменее либеральничанья.
* * *
Где-то прочел я:
Скажи, как мог попасть ты в либералы?
– Да так пришлось: судьбы не победить.
Нет ни гроша, к тому ж и чин мой малый:
Так чем же вы прикажете мне быть?
* * *
Один приятель мой, доктор, говорит про зятя своего: «Он так плохо учился и вообще так плох, что я всегда советую ему сделаться гомеопатом».
* * *
Т*** говорит про начальника своего Б***: «Я так уверен, что он говорит противное тому, что думает, что когда скажет мне: садитесь, я сейчас за шляпу и ухожу».
* * *
Александр Булгаков рассказывал, что в молодости, когда он служил в Неаполе, один англичанин спросил его: есть ли глупые люди в России?
Несколько озадаченный таким вопросом, он отвечал: «Вероятно, есть, и не менее, полагаю, нежели в Англии». «Не в том дело, – возразил англичанин. – Вы меня, кажется, не поняли, а мне хотелось узнать, почему правительство ваше употребляет на службу чужеземных глупцов, когда имеет своих?»
Вопрос, во всяком случае, не лестный для того, кто занимал посланническое место в Неаполе.
* * *
Когда М*** говорит о том, что быть бы могло, когда он фантазирует и романизирует, у него нет и тени воображения. Воображение его пробуждается только тогда, когда он заговорит о том, что было и что есть. Тут вымыслы так и вспыхивают, так и рассыпаются разноцветными звездами и блестками. Со всем тем, лжецом назвать его нельзя, хотя и лжет он безмилосердно, но бессознательно. Он просто сухой романист и мечтательный летописец.
* * *
Лермонтов сказал:
Люблю отчизну я, но странною любовью,
и свою любовь выразил в милой и свежей картине. Но есть у нас и такие любители или любовники, из которых каждый, в минуту чистосердечия, мог бы сказать:
Россию я люблю, но странною любовью;
Все хочется сильней мне обругать ее.
И это, может быть, своего рода патриотизм.
Но любовь эта уже чересчур героическая. Мы очень любим бичевать себя. Дело хорошее – видеть ошибки и погрешности свои: покаяние – дело похвальное. Но не надобно забывать притом пословицу про того, который лоб себе расшибет, если заставить его Богу молиться. Во всем нужна мера.
Многие любят Россию не такой, какова она есть, а такой, которою хотелось бы им, чтобы она была. То есть, любовник влюблен в красавицу, но сердится, что она белокура и что у нее голубые глаза, а что она не черноволосая и не черноокая, и каждый день преследует ее за то, что она такой родилась.
Хомяков, без сомнения, любил Россию чистою, возвышенной и просвещенной любовью; но и он, однажды, в лирическом увлечении, чересчур понатужил ноту и вышел из надлежащего диапазона, когда говорил России, что она
Безбожной лести, лжи тлетворной
И всякой мерзости полна.
Последний стих решительно неуместный и лишний. Таким укорительным и грозным языком могли говорить боговдохновленные пророки. Но в наше время простому смертному, хотя бы и поэту, подобает быть почтительнее и вежливее с матерью своей. Добрый сын Ноя прикрыл плащом слабость и стыд отца.
* * *
После долгого спора о равенстве, о коммунизме и о других материях важных кто-то резюмировал прения следующими стихами:
«Все смертные равны: таков закон природы».
Есть правда в этом, но отыщется и ложь.
И лошади равны, как люди: от чего ж
И в них есть низшие и высшие породы?
Есть кляча в пять рублей, есть лошадь тысяч в шесть.
И в людях был Вольтер, да и Добчинский есть.
Нет, на один аршин нельзя творенья мерить,
Хоть будь они о двух иль четырех ногах.
Нет, милый краснобай, тебе нас не уверить,
Как там ни горячись в напыщенных словах,
Что наша матушка природа коммунистка:
Нет, есть и у нее свой выбор и очистка.
Единство видим в ней, но равенства в ней нет.
Таков был искони и есть и будет свет.
Как почву ни ровняй насильственной лопаткой,
Природа кое-где глядит аристократкой.
* * *
Вот что Жуковский пишет в одном письме:
Un homme instruit, mais immoral sera pernicieux: car il employera pour le mal les moyens qu'il possede. Un homme moral, mais ignorant, sera pernicieux: car avec les meilleures intentions, depourvu de moyens, il agira de travers et gatera la bonne cause.
(«Человек просвещенный, но безнравственный будет вреден: потому что употребит на зло средства, коими он обладает. Человек нравственный, но ума необразованного, будет вреден: потому что, несмотря на благие намерения, поступать будет он криво и испортит доброе дело».)
Еще, говоря вообще о воспитании наследников престола, выражается он следующим образом:
Son instruction doit etre plutot complete, que detaillee. Ses idees doivent etre grandes, mais pratiques. Il doit connaitre les homines tels qu'ils sont, et les choses telles qu'elles sont. Mais un beau ideal doit vivre en son ame: s'est celui de son role et de sa destination. Deux choses peuvent surtout enflammer et nourrir cet ideal, sans l'entrainer dans le pays des fictions, si dangereux pour un Souverain. C'est la religion et l'histoire. La religion pour le Souverain est la grande science de sa responsabilite devant Dieu. («Обучение его должно быть скорее всеобъемлющее, чем дробное. Понятия его должны быть обширны и возвышенны, но вместе с тем и практические. Он должен знать людей, каковыми они бывают, и вещи, каковы они на деле. Но идеал красоты должен храниться в душе его: это идеал звания его и предназначения его. Два предмета могут особенно воспламенять и питать этот идеал, не увлекая его в область мечтательностей, столь пагубную для государя. Эти два предмета: религия и история. Религия для царя есть великая наука ответственности его пред Богом».)
Какой сильный и выразительный язык и какие верные и возвышенные мысли! Жуковский, за некоторыми невольными руссицизмами, прекрасно выражался на французском языке. С ним, вероятно, свыкся он и овладел им прилежным чтением образцовых и классических французских писателей. Не в Благородном же пансионе при Московском университете, не от Антонского, не из Белева мог он позаимствовать это знание.
Замечательно, что три наши правильнейшие и лучшие прозаики, Карамзин, Жуковский и Пушкин, писали почти так же свободно на французском, как и на своем языке. Следовательно, галлолюбие или французомания не враждебны правильному развитию русской речи.
Французский язык, своею точностью, ясностью, логическими оборотами речи, может служить хорошим курсом и преподаванием для правильного образования слога и на другом языке. Разумеется, говорим здесь о французском языке, обработанном великими писателями истекшего столетия; а не о нынешнем французском литературном наречии.
Влияние немецкого языка и немецкой фразеологии, там, где оно у нас встречается, оказывается вредным. Немцы любят бродить и отыскивать себе дорогу в тумане и в извилинах перепутанного лабиринта. Темная фраза для немца находка, головоломная гимнастика вообще немцу по нутру.
Французы любят или любили ясный день и прямую, большую дорогу. Русской речи также нужны ясность и ровная столбовая дорога. Карамзин, в письме из Женевы 1789 г., пишет: «Здешняя жизнь моя довольно единообразна. Прогуливаюсь и читаю французских авторов, и старых, и новых, чтобы иметь полное понятие о французской литературе». (Немецкая и английская были ему уже знакомы.) Он мог бы прибавить, что читает французских авторов, чтобы научиться писать по-русски так, как он после писал.
* * *