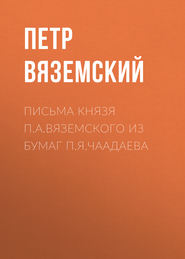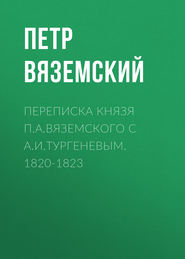По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Старая записная книжка. Часть 1
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
1825
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Рассказывали про Хитрова, что он, на разные проделки в этом роде, был не очень совестлив. Не удастся ему, например, достигнуть где-нибудь цели в своих любовных поисках, он вымещал неудачу, высылая карету свою, которая часть ночи стоит неподалеку от жительства непокорившейся красавицы. Иные подмечали это, выводили из того заключения свои; а с него было довольно.
Впрочем, он был умен, блистателен и любезен; товарищи и молодежь очень любили его. Он был образован и в своем роде литературен. Алексей Пушкин рассказывал, что однажды, на военной сходке, заметил он книжку в гусарской сумке его: это были элегии Парни, только что изданные в Париже.
Хитров бросился к Пушкину и говорит ему: «Ради Бога, молчи и не губи меня! Товарищи в полку любят меня потому, что считают меня служакой и гулякой и чуть ли не безграмотным. Как скоро проведают они, что занимаюсь чтением французских книг, я человек пропащий, и мне в полку житья не будет». Хитров был очень любим великим князем Константином Павловичем, который умел ценить ум и светскую любезность. Пользовался он и благоволением императора Александра. Умер он в царствование его, кажется, во Флоренции, посланником при Тосканском дворе. Был он женат на дочери князя Кутузова-Смоленского, вдове графа Тизенгаузена, незабвенной в петербургских преданиях Елизавете Михайловне.
Вот еще любезная личность, которую миновать не может сочувственное воспоминание. В летописях петербургского общества имя ее осталось так же незаменимо, как было оно привлекательно в течение многих лет. Утра ее (впрочем, продолжавшиеся от часу до четырех пополудни) и вечера дочери ее, графини Фикельмонт, неизгладимо врезаны в памяти тех, которые имели счастье в них участвовать.
Вся животрепещущая жизнь европейская и русская, политическая, литературная и общественная, имела верные отголоски в этих двух родственных салонах. Не нужно было читать газеты, как у афинян, которые также не нуждались в газетах, а жили, учились, мудрствовали и умственно наслаждались в портиках и на площади. Так и в двух этих салонах можно было запастись сведениями о всех вопросах дня, начиная от политической брошюры и парламентской речи французского или английского оратора и кончая романом или драматическим творением одного из любимцев той литературной эпохи. Было тут обозрение и текущих событий; был и premetr Petersbourg с суждениями своими, а иногда и осуждениями, был и легкий фельетон, нравоописательный и живописный.
А что всего лучше, эта всемирная, изустная разговорная газета издавалась по направлению и под редакцией двух любезных и милых женщин. Подобных издателей не скоро найдешь. А какая была непринужденность, терпимость, вежливая и себя и других уважающая свобода в этих разнообразных и разноречивых разговорах! Даже при выражении спорных мнений не было и слишком кипучих прений: это был мирный обмен мыслей, воззрений, оценок, система: free trade, приложенная к разговору. Не то, что в других обществах, в которых задирчиво и стеснительно господствует запретительная система: прежде, чем выпустить свой товар, свою мысль, справляешься с тарифом; везде заставы и таможни.
В числе сердечных качеств, отличавших Елизавету Михайловну Хитрову, едва ли не первое место должно занять, что она была неизменный, твердый, безусловный друг друзей своих. Друзей своих любить немудрено; но в ней дружба возвышалась до степени доблести. Где и когда нужно было, она за них ратовала, отстаивала их, не жалея себя, не опасаясь за себя неблагоприятных последствий, личных пожертвований от этой битвы не за себя, а за другого.
Несчастная смерть Пушкина, окруженная печальною и загадочною обстановкою, породила много толков в петербургском обществе; она сделалась каким-то интернациональным вопросом. Вообще жалели о жертве; но были и такие, которые прибегали к обстоятельствам, облегчающим вину виновника этой смерти, и, если не совершенно оправдывали его (или, правильнее, их), то были за них ходатаями.
Известно, что тут замешано было и дипломатическое лицо. Тайна безымянных писем, этого пролога трагической катастрофы, еще недостаточно разъяснена. Есть подозрения, почти неопровержимые, но нет положительных юридических улик.
Хотя Елизавета Михайловна, по семейным связям своим, и примыкала к дипломатической среде, но здесь она безусловно и исключительно была на русской стороне. В Пушкине глубоко оплакивала она друга и славу России.
Помню, что при возвращении из заграницы в Петербург, при выходе моем с парохода на берег, узнал я о недавней кончине Елизаветы Михайловны. Грустно было первое впечатление, приветствовавшее меня на родине: не стало у меня внимательной, доброй приятельницы; вырвано главное звено, которым держалась золотая цепь, связывающая сочувственный и дружеский кружок; опустел, замер один из Петербургских салонов, и так уже редких в то время.
* * *
Великий князь Михаил Павлович однажды, указывая на лицо, которое отправлялось в Америку с дипломатическим назначением, сказал мне: Jamais le comte Nesselrode n'a montre plus de perspicacite et de tact, que dans cette nomination: c'est bien la une figure de l'autre monde (Никогда граф Нессельроде не выказывал столько проницательности и такта, как в этом назначении: вот поистине фигура с того света).
* * *
Много толкуют везде, следовательно и у нас, о печати (la presse), о силе, о всемогуществе ее, об ее обязанностях и правах, влиянии и о прочих свойствах и принадлежностях ее. Оно так, но и не так. Печать не есть самобытная и нераздельная власть; напротив, она на деле многосложна, многообразна. Это не самородный слиток, а наборная – без каламбура – штучная, мозаическая работа.
Печать – орудие, машина сама по себе бездейственная и приводимая в движение и действие только мыслью и рукою двигателя; следовательно, все дело в двигателе. Какова мысль, какова рука, такова и печать. Печать равнодушно, равно послушно и машинально печатает истину и ложь, мудрость и нелепость. Печать не что иное, как устное слово, переложенное на бумагу и закрепленное ею: изобретете великое, едва ли не высшее из всех человеческих изобретений. Порох, паровая сила, электричество ей в подметки не годятся. Она дает улетучивающемуся слову оседлость вековечную. Но все же, в сущности своей, она то же устное слово, застывшее, хотя оно и «тверже металлов и выше пирамид» (Державин).
А кажется – повторим мысль свою – никто спорить не будет, что как бывают умные слова, так могут быть и глупые, как бывают полезные и назидательные, так бывают вредные и разрушительные. Следовательно, печати обобщать нельзя. Она не ответственное, единичное лицо. Она цифра миллион. Имя ее легион. Беда или недоумение в том, что каждый газетчик, каждый фельетонист, каждый борзописец говорит именем печати, как будто вся печать в руках его, как будто весь мир печати лежит на плечах его. Он забывает, что через улицу от него есть другой журналист, другая печать, которые также носят на плечах своих мир печати, но что эта печать говорит совсем другое, нежели та; не только совсем другое, но и диаметрально противоречащее ей. Эти два мира, и не два, а десять и двадцать, борются между собою, силятся подорвать друг друга, а если не подорвать, то осмеять, обхаять, часто опозорить; и все во имя той же печати, во славу и в охранение достоинства ее.
Журналистика в наше время, как у нас, так и везде, является одною из богатейших, многоплоднейших ветвей того дерева познания блага и зла, дерева, которое широко разрослось и глубоко укоренилось под именем печати. А потрудитесь внимательно и ближе посмотреть: вы увидите, что на этой ветви нет двух листьев совершенно друг с другом сходных ни тканью, ни краскою, ни запахом. Ветвь эта полосатая, пестрая, арлекинская. Можно представить себе, как зарябит в глазах и в уме, если прилежно вглядеться в эту разноцветность и пестроту.
Печать, особенно журнальная, бдительная, боевая, выдает себя в своем разнообразии за уполномоченного присяжного поверенного от лица общественного мнения, что, впрочем, не мешает ей выдавать себя и за опекуна, за предводителя этого же общественного мнения; а между тем у каждой газеты есть свое доморощенное, крепостное, к газете, как к земле, приписное общественное мнение. Что город, то норов; что газета, то мнение. Этим мнением она преподает, проповедует, устрашает, обнадеживает, пророчит, законодательствует, казнит, милует. Все это действует на толпу: она увлекается печатью, идолопоклонствует пред нею, верует в нее или боится ее; а все потому, что кажется ей, что печать – власть, воплощенная в одно живоначальное и нераздельное целое.
Да, помилуйте, господа, успокойтесь и отрезвитесь; всмотритесь в эту всемогущую, таинственную, роковую печать, и вы увидите, что здесь и там стоят за нею все знакомые вам люди: Сидор Сидорович, Пафнутий Пафнутьевич, а может быть, и Петр Иванович Бобчинский. – Как Бобчинский? Какой Бобчинский? – Да все тот же, который в уездном городке своем тем известен, что он петушком, петушком, петушком бегает за дрожками городничего. Ныне он издает газету – и почему не издавать бы ему газеты? И он сделался частичкою печати, той всемирной и громадной паровой машины, которая заведует и ворочает судьбами частных лиц и народов.
Пока вы не были подписчиками этих господ, пока не платили им абонементного оброка, ведь вы мнениями их не дорожили, не советовались с ними, не признавали за ними всеведения и всемогущества, даже, может статься, считали их людьми довольно посредственными; а теперь, что они приютились за волшебными ширмами и кулисами печати, вы с трепетом, с идолопоклонством внимаете голосу их, как голосу оракула. Право, за вас смешно. В самообольщении своем вы забываете, что не боги горшки обжигают, не они обжигают и газеты и журналы, а все те же люди; в людях же есть всячина: человек человеку рознь. Есть люди, которые и горшков не умеют обжигать, не только что журналы.
Но пора, однако же, мне оговорить себя. Я, может быть, слишком далеко зашел. Пожалуй, добрые люди подхватят и Бог весть какую напраслину на меня наклеплят: обзовут меня дикарем, ненавистником просвещения и проч. и проч. Напротив, люблю печать вообще, и журналистику в особенности, не менее каждого порицателя моего, и уважаю их, вероятно, более, нежели многие, но именно потому, что уважаю, я и взыскателен, и разборчив, и мнителен. От всей души желаю журналам здравствовать; молю Провидение о благоденствии и долгоденствии их. Но из того не следует, чтобы находил я, что все журналы хороши. Не следует и то, что я враг журналистики, когда говорю, что такой-то журналист взялся не за свое дело; а если за свое, то жаль, что это дело не литературное и не общеполезное. Вполне признаю заслуги и благодеяния, которые может оказать обществу печать и в особенности периодическая, когда она честно и добросовестно направлена и с умелостью ведена.
Да к тому же в любви и в уважении моем нет бескорыстия. Есть тут и расчет: хорошо или худо, я сам принадлежу к этой силе; радуюсь и горжусь тем, что ей принадлежу. Лично обязан я ей многими светлыми радостями, может быть, и некоторыми сочувствиями со стороны благосклонного ближнего.
Но признаемся, мы ни в чем не любим крайностей и преувеличения: скажем прямо, не любим надувательства ни свыше, ни снизу, ни с боку. Не любим, когда словами отвлеченными, абстрактными, эластическими опутывают и с толку сбивают мысль и маскируют правду. Пускай печать остается тем, чем она есть, чем быть должна. Призвание и значение ее достаточно велики и в границах более умеренных и узаконенных. Незачем выбегать ей за границы с контрабандою. Она большая, необходимая, незаменимая пособница в умственном развитии и деятельности человечества; но эта деятельность опять же в ней одной зарождается и сосредоточивается.
Печать не жизнь, а отголосок жизни, самый звучный и продолжительный из всех отголосков. Для лучшего упрочения и оправдания силы, выпавшей на долю ее, в виду собственной пользы своей, своего собственного достоинства, печать, особенно периодическая, должна отказаться от притязаний самовластия и самозванства; не должна она ни себя обманывать, ни морочить других. Пусть она свое повелительное я или мы спустит несколькими градусами пониже; голос ее этим окрепнет и просветлеет. Много чувствуем мы ее благодеяния и много благодарны ей, но она слишком часто сама провозглашает себя благодетельницею и спасительницею человечества. Это по крайней мере неловко.
Еще одно: не следует каждому журналу, каждой газете преподавать мнения и приговоры свои от имени коллективной печати; таковой печати нет. Есть их много, и каждая отвечай за себя. Не лучше ли будет, когда окажется в том надобность, сказать, например, вот так: «высокие обязанности и права, возложенные на такую-то типографию (назвать ее по имени), дают нам смелость сказать то-то и то-то». Оно будет скромнее, но вернее; каждая типография – часть печати, а не абсолютная печать. А теперь выходит, что каждый командующий взводом, каждый газетчик говорит как будто Наполеон I, от имени всего победоносного войска и, как он в Египте, возглашает: «Воины, не забывайте, что с высоты сих пирамид сорок веков смотрят на вас!»
* * *
«Как это тебе никогда не вздумалось жениться?» – спрашивал посланника Шредера император Николай, в один из проездов своих через Дрезден. «А потому, – отвечал он, – что я никогда не мог бы дозволить себе ослушаться вашего величества». – «Как же так?» – «Ваше величество строго запрещаете азартные игры, а из всех азартных игр женитьба самая азартная».
Он не только оставался до конца старым холостяком, но и секретарей своих присуждал на схимническую холостую жизнь. Иметь при себе женатого секретаря казалось ему дипломатическою неблагопристойностью, чуть ли не преступлением.
Он был совершенный образец дипломата старого покроя, старых верований и обычаев. В числе хороших его официальных качеств было убеждение, что хороший дипломат должен иметь хорошего повара. Обеды его славились в Европе. Он умел кормить, но и любил кормить; умел придавать предлагаемому особый колорит, особенную смачность. За столом его вкусное блюдо было вдвое вкуснее, чем за другим столом. Дело мастера боится. Le style c'est rhomme.
Он долго был в царствование Александра I второстепенной пружиной в нашей дипломатической администрации: много лет советником при Парижском посольстве, еще более лет посланником при Саксонском дворе. Он такого был сложения и строя, что не мог не быть долго на том месте, куда его сажали судьба и начальство. Подвижности никакой в нем не было, даже материальной. Он не признавал законности железных дорог и совершал поездки свои в уютной и покойной дормезе, запряженной лошадьми. Он был человек образованный и приятного разговора, многое и многих знал; но, разумеется, сочных и жирных нескромностей ждать от него было нельзя, а все же было что послушать и чем поживиться. Как в политике держался он преданий и узаконенных авторитетов, так равно и в общежитии, в искусстве и литературе. В драматическом отношении, вкус и сочувствие его долгим пребыванием в Париже были воспитаны такими знаменитостями, как актрисы Жорж, Марс, как трагик Тальма. Он не признавал, не мог и не хотел признавать, что искусство способно идти иначе и дальше. Когда явилась Рашель, он смотрел на нее, как на мятежницу, на самозванку; он не признавал за нею права, как отрицал право железной дороги.
Однажды в Дрездене, за обедом у него, говорили о Рашели. Все превозносили дарование ее; он один оставался непреклонным Сикамбром. Наконец кто-то сказал: «Конечно, нужно прислушаться, привыкнуть к новой дикции ее». – «Вы говорите, привыкнуть, – прервал с живостью Шредер, – но привыкнуть можно ко всему. Дерите каждый день кошку за хвост, и вы тем кончите, что привыкнете к ее жалобному мяуканью и визгу». Вы видите, он до смелой оригинальности доводил независимость мнений своих.
Личным врагом его в жизни и в миросоздании был ветер северо-восточный (Nord-Ost). Он не выносил его, не мог равнодушно и спокойно говорить о нем. Надобно было видеть, как в большом Дрезденском саду он защищался от него, лавировал и боролся с ним. Кажется, у него были особенные платья, сюртуки, бекеши, шляпы именно на то приспособленные, чтобы выходить на бой с противником своим. Само собою разумеется, что он ненавидел сигары, как предосудительное нововведение в европейские нравы. Но зато с сапогами обращался он, как лакомый куритель обращается с сигарами. Он, прежде чем обновить сапоги, давал им год и два хорошенько выстояться и высохнуть; и все это в виду сохранения здоровья.
Бессемейный, одинокий, все домашние заботы устремил он на сбережение себя. И что же? Оно довольно благоразумно и никому не обидно. Кончина его представляет психическое явление, довольно странное. У него часто обедали два дрезденские приятеля его. В течение времени, один из них умер, другой заболел. Занемог легко и Шредер, но он был на ногах и, казалось, соблюдал порядок дня своего по-обыкновенному. Одним утром приказывает он дворецкому накрыть стол к обеду на три прибора, прибавляя, что два поименованные приятеля будут с ним обедать. Дворецкий удивился, но не осмелился сделать возражение. В урочный час Шредер садится за стол один; во все время обеда живо говорит он, то направо, то налево, как будто с сидящими около него приятелями. К вечеру обнаружилась в нем сильная воспалительная болезнь. Кажется, на другой день его уже не стало.
Это было мне рассказано его и моим доктором, знаменитым в Дрездене Геденусом. Кажется, очень скоро затем умер и третий заочный и таинственный собеседник.
* * *
Казалось бы, либерализм должен раскрывать ум и понятия. На меня действует он совершенно противоположно: он съеживает и суживает их. NN говорит про X., что он весь замуровлен в своих либеральных мыслях.
Странное сближение слов: замуроваться и se claquemurer. Неужели и наше слово происходит от латинского murus, стена? Родства его с глаголом замуравливать (посуду) искать нечего.
* * *
Про одну даму, богато и гористо наделенную природою, NN говорит, что когда он смотрит на нее, она всегда напоминает ему известную надпись: сии огромные сфинксы.
* * *
Немцевич, польский поэт, сказал про одну варшавскую худощавую даму, что у нее не лицо, а два профиля; а о нем сказано было в сатирическом каталоге, который ходил по городу: Niemcewicz, auteur d'une etude sur les plantations en Amerique, ou il a plante sa femme (который на плантации в Америке посеял свою жену).
По выходе из Петропавловской крепости с генералом своим Костюшкой отправился он в Америку, там женился на туземке и, при возвращении своем в Европу, там ее и оставил. По крайней мере, таковы были варшавские слухи.
* * *
Это напоминает мне, что в старые годы и Москва промышляла подобными сатирическими проделками, например под заглавием: Тверской бульвар, Пресненские пруды и так далее. Обыкновенно и стихи, и шутки, хотя и с притязаниями на злостность, были довольно пресны. Вот образчики этого остроумия, залежавшиеся в памяти моей.
Были в Москве две сестрицы, о них сказано:
Кривобокие, косые,
Точно рвотный порошок.
Был тогда молодой человек, вышедший из купечества в гусарские офицеры, собою очень красивый, на примете у многих дам, известный долголетней связью с одной из милейших московских барынь, любезный, вежливый, принятый в лучшие дома. Бульварный или Пресненский песнопевец рисует его следующими стихами:
А Гусятников, купчишка,
В униформе золотой,