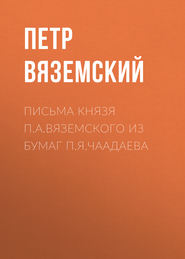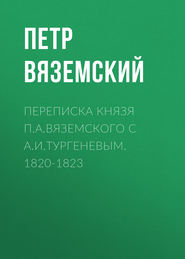По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Старая записная книжка. Часть 1
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
1825
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Алексей Перовский (Погорельский) был позднее удачный мистификатор. Он однажды уверил сослуживца своего (который после сделался известен несколькими историческими сочинениями), что он великий мастер какой-то масонской ложи и властью своей сопричисляет его к членам ее. Тут выдумывал он разные смешные испытания, через которые новообращенный покорно и охотно проходил. Наконец заставил он его расписаться в том, что бобра не убил.
Перовский написал амфигури (anphigouri), шуточную, веселую чепуху. Вот некоторые стихи из нее:
Авдул-визирь
На лбу пузырь
И холит и лелеет;
А Паний сын,
Взяв апельсин,
уже не помню, что из него делает. Но такими стихами написано было около дюжины куплетов. Он приносит их к Антонскому, тогдашнему ректору университета и председателю общества любителей словесности, знакомит его с произведением своим и говорит, что желает прочесть стихи свои в первом публичном заседании общества. Не должно забывать, что в то время граф Алексей Кириллович Разумовский был попечителем Московского университета, или уже министром народного просвещения. Можно вообразить себе смущение робкого Антонского. Он, краснея и запинаясь, говорит: «Стишки-то ваши очень-то милы и замысловаты-то; но, кажется, не у места читать их в ученом собрании-то». Перовский настаивает, что хочет прочесть их, уверяя, что в них ничего противоцензурного нет. Объяснения и пререкания продолжались с полчаса. Бедный Антонский бледнел, краснел, изнемогал чуть не до обморока.
А вот еще проказа Перовского. Приятель его был женихом. Отчим невесты был человек так себе. Перовский уверил его, что и он страстно влюблен в невесту приятеля своего, что он за себя не отвечает и готов на всякую отчаянную проделку. Отчим, растроганный и перепуганный таким признанием, увещевает его образумиться, одолеть себя. Перовский пуще предается своим сетованиям и страстным разглагольствованиям. Отчим не отходит от него, сторожит, не спускает его с глаз, чтобы вовремя предупредить какую-нибудь беду. Это продолжается с неделю и более. Раз все семейство гуляет в саду. Отчим идет рука под руку с Перовским, который продолжает нашептывать, но вдруг вырывается из рук его и бросается в пруд, мимо которого они шли. Перовский знал, что этот пруд был не глубок, и не боялся утонуть, но пруд был грязный и покрытый зеленой тиной. Надобно было видеть, как вылез он из него зеленою русалкой и как Ментор ухаживал за своим злополучным Телемаком: одел его своим халатом, поил теплой ромашкой и так далее, и так далее.
Другой проказник-мистификатор читает в «Петербургских Ведомостях», что такой-то барин объявил о желании иметь на общих издержках попутчика в Казань. На другой день, в четыре часа поутру, наш мистификатор отправляется по означенному адресу и велит разбудить барина. Тот выходит к нему и спрашивает, что ему угодно. «А я пришел, – отвечает он, – чтобы извиниться и доложить вам, что я на вызов ваш собирался предложить вам товарищество свое, но теперь, по непредвидимым обстоятельствам, раздумал ехать с вами и остаюсь в Петербурге. Прощайте: желаю вам счастливого пути!»
Кажется, этот мистификатор чуть не был ли сродни Перовскому.
* * *
Когда образовалось Арзамасское общество, пригласили и В. Л. Пушкина принять в нем участие. Притом его уверили, что это общество род литературного масонства и что при вступлении в ложу нужно подвергнуться некоторым испытаниям, довольно тяжелым. Пушкин, который уже давно был настоящим масоном, легко и охотно согласился на все предстоящие искушения.
Тут воображение Жуковского разыгралось. Он был не только гробовых дел мастер, как мы прозвали его по балладам, но и шуточных и шутовских дел мастер. Странное физиологическое и психическое совпадение! При натуре идеальной, мечтательной, несколько мистической, в нем были и сокровища веселости, смешливости: в нем были зародыши и залоги карикатуры и пародии, отличающиеся нередко острой замысловатостью. Прием Пушкина вдохновил его. Он придумал и устроил разные мытарства, через которые новобранец должен был пройти. Тут пошли в дело и в символ, и «Липецкие Воды» Шаховского, и «Расхищенные Шубы» его, и еще Бог весть что. Барыня-Арзамас требует весь туалет: вот вся Славянофильская Беседа заочно всполошилась, вспрыгнула с усыпительных кресел и прибежала, или притащилась на крестины новорожденного Арзамасца.
Приводим здесь речи, которые были произнесены при этом торжественном обряде. Они познакомят непосвященных и несведущих с Арзамасскими порядками. Много было тут шалости и, пожалуй, частью и вздорного, но не мало было и ума, и веселости. В старой Италии было множество подобных академий, шуточных, по названию и некоторым обрядам своим, но не менее того обратившихся на пользу языка и литературы. Может быть, и Арзамас, хотя не долго просуществовавший, принес свою долю литературной пользы. Во-первых, это было новое скрепление литературных и дружеских связей, уже существовавших прежде между приятелями. Далее, это была школа взаимного литературного обучения, литераторского товарищества. А главное, заседания Арзамаса были сборным местом, куда люди разных возрастов, иногда даже и разных воззрений и мнений по другим посторонним вопросам, сходились потолковать о литературе, сообщить друг другу свои труды и опыты и остроумно повеселиться и подурачиться.
Речи, читанные при приеме в Арзамасское общество Василия Львовича Пушкина
Какое зрелище перед очами моими? Кто сей, обремененный столькими шубами страдалец? Сердце мое говорит, что это почтенный В. Л. Пушкин, тот Василий Львович, который снизошел со своей Музой, чистой девой Парнаса, в обитель нечистых барышень покушения, и вывел ее из сего вертепа не осрамленной, хотя и близок был сундук[14 - Поэма Пушкина «Опасный Сосед».]; тот Василий Львович, который видел в Париже не одни переулки[15 - Шишков где-то намекал, что Пушкин таскался только по парижским улицам и переулкам.], но г. Фонтаня и г. Делиля; тот В.Л., который могуществом гения обратил дородного Крылова в легкокрылую малиновку. Все это говорит мне мое сердце. Но что же говорят мне мои очи? Увы! Я вижу перед собой одну только груду шуб. Под сей грудою существо друга моего, орошенное хладным потом. И другу моему не жарко. И не будет жарко, хотя бы груда сия возвысилась до Олимпа и давила его как Этна Энцелада. Так точно! Сей В. Л. есть Энцелад: он славно вооружился против Зевеса-Шутовского и пустил в него увесистый стих, раздавивший ему чрево. Но что же? Сей издыхающий наслал на него, смиренно пешествующего к Арзамасу, мятель Расхищенных Шуб. И не спасла его девственная Муза, матерь Буянова. И лежит он под страшным сугробом шуб прохладительных[16 - Намек на острословие графа Д. Н. Блудова: Ты в «Шубах» Шутовский холодный; в «Водах» ты Шутовский – сухой.]. Очи его постигла куричья слепота Беседы; тело его покрыто проказой сотрудничества, и в членах его пакость Академических Известий, издаваемых г. Шишковым. О друг наш! Скажу тебе просто твоим же непорочным стихом: терпение, любезный! Сие испытание конечно есть мзда справедливая за некие тайные грехи твои. Когда бы ты имел совершенную чистоту Арзамасского гуся, тогда бы прямо и беспрепятственно вступил в святилище Арзамаса; но ты еще скверен; еще короста Беседы, покрывающая тебя, не совсем облупилась. Под сими шубами испытания она отделится от твоего состава. Потерпи, потерпи, Василий Львович. Прикасаюсь рукой дружбы к мученической главе твоей. Да погибнет ветхий В.Л.! Да воскреснет друг наш возрожденный Вот! Рассыптесь шубы! Восстань, друг наш! Гряди к Арзамасу! Путь твой труден. Ожидает тебя испытание. Чудище обло, озорно, трезевно и лаяй ожидает тебя за сими дверями. Но ты низложи сего Пифона, облобызай сову правды, прикоснись к лире мщения, умойся водой потока и будешь достоин вкусить за трапезой от Арзамасского гуся, и он войдет в святилище желудка твоего без перхоты и изыдет из оного без натуги.
Не страшись, любезный странник, и смелыми шагами путь свой продолжай. Твоему ли чистому сердцу опасаться испытаний? Тебе ли трепетать при виде пораженного неприятеля? Мужайся! Уже ты освобожден от прохладительного удушья чудотворных шуб, и переход твой из одного круга подлунных храмин очищения в другой уже ознаменован великим событием. Ты пришел, увидел и победил, и совесть твоя, несмотря на изможденный лик растерзанного врага Арзамаса, спокойна. Так, любезный странствователь и будущий согражданин! Я нахожу на лице твоем все признаки тишины, всегда украшающей величавую осанку живого Арзамасского знака! Какое сходство в судьбах любимых сынов Аполлона! Ты напоминаешь нам о путешествии предка твоего Данта. Ведомый божественным Вергилием в подземных подвалах царства Плутона и Прозерпины, он презирал возрождавшиеся препятствия на пути его, грозным взором убивал порок и глупость, с умилением смотрел на несчастных жертв страстей необузданных и, наконец, по трудном испытании, достиг земли обетованной, где ждали его венец и Беата. Гряди подобно Данту, повинуйся спутнику твоему; рази без милосердия тени Мешковых и Шутовских и помни, что «прямой талант везде защитников найдет». Уже звезда восточная на высоте играет; стремись к лучезарному светилу; там при его сиянии ты вместо Беаты услышишь пение Соловья и Малиновки[17 - Басня, сочинение В. Л. Пушкина, которую он особенно любил читать.], и чувства твои наполнятся приятнейшими воспоминаниями.
Принимая с сердечным умилением тебя, любезный товарищ, в недра отечественного Арзамаса, можем ли мы от тебя сокрыть таинственное значение обрядов и символов наших? Можем ли оставить на глазах твоих мрачную завесу невежества беседного? Нам ли следовать примеру Бесед, сих рыкающих Сцилл и Харибд, между коими ты доныне плавал, и, подобно клевретам, тщательно прятать от слушателей и сочленов, даже от самих себя, здравый, обыкновенный смысл и самые обыкновенные познания? Что нам до Бесед? Арзамас далек от них, как Восток от Запада, как водяной Шутовский далек от Мольера, а дед седой от Лагарпа. Нет! Сердца и таинства наши равно открыты новому нашему собрату, защитнику вкуса, врагу Славянского варварства.
Вступая в сие святилище, ты на каждом шагу видишь цель и бытописания нашего общества. Ты переносишься в трудные времена, предшествовавшие обновлению благословенного Арзамаса, когда мы скитались в стране чуждой, дикой, между гиенами и онаграми, между Халдеями Беседы и Академии. На каждом шагу видишь следы претерпенных нами бурь и преодоленных опасностей, прежде нежели мы соорудили ковчег Арзамаса, дабы спастись в нем от потопа Липецкого. С непроницаемой повязкой на глазах блуждал ты по опустевшим чертогам; так и бедные читатели блуждают в мрачном лабиринте Славенских периодов, от страницы до страницы вялые свои члены простирающих. Ты ниспускался в глубины пропасти: так и досточудные внуки седой Славены добровольно ниспускаются в бездны безвкусия и бессмыслицы. Ты мучился под символическими шубами, и обильный пот разливался по телу твоему, как бы при виде огромной мелко исписанной тетради в руках чтеца беседного. Может быть, роптал ты на излишнюю теплоту сего покрова; но где же было взять шуб холодных? Они остались все в поэме Шутовского! Потом у священных врат представился взорам твоим бледный, иссохший лиц Славенофила: глубокие морщины, собранные тщательно с лиц всех усопших прабабушек, украшали чело его; глаза не зря смотрели на нового витязя Арзамаса, а из недвижных уст, казалось, исходил грозящий голос: «Чадо! Возвратися вспять в Беседу вторую, из нея же исшел еси!» Но тебе ли устрашиться суетного гласа? Ты извлек свой лук, который подобно луку Ионафана от крове язвеных и от тука сильных не возвратися тощ вспять, наложил вместо стрелы губительный стих: Нам нужны не слова, нам нужно просвещенье…, и призрак упал, извергая из уст безвредный свой пламень. Не так ли упал перед тобой и сам Славенофил, тщетно твердя о парижских переулках! Наконец, совершены все испытания. Уста твои прикоснулись к таинственным символам: к Лире, конечно, не Хлыстова и не Барабанова, и к Сове, сей верной подруге Арзамасского Гуся, в которой истинные Арзамасцы чтят изображение сокровенной мудрости. Не Беседе принадлежит сия посланница Афин, хотя седой Славенофил и желал себе присвоить ее в следующей песне, достойной беседных Анакреонов:
Сидит сова на печи,
Крылышками трепелючи;
Оченьками лоп, лоп,
Ноженьками топ, топ.
Нет, не благородная Сова, но безобразный нетопырь служит ему изображением, ему и всем его клевретам.
Настала минута откровений. Приблизься, почтенный Вот, новый любезный собрат наш! Прими же из рук моих истинный символ Арзамаса, сего благолепного Гуся, и с ним стремись к совершенному очищению. В потоке Липецком омой остатки беседные скверны, сей грубой коры, которую никогда не могут проникнуть лучи здравого рассудка; и потом, с Гусем в руках и сердце, займи место, давно тебя ожидающее. Таинственный Гусь сей да будет отныне всегдашним твоим путеводителем. Не ищи его происхождения в новейших баснях: в них Гуси едва ли опрятнее свиней собственных! Гусь наш достоин предков своих. Те спасли Капитолий от внезапного нападения галлов, а сей бодрственно охраняет Арзамас от нападений беседных Халдеев и щиплет их победоносным своим клювом. И ты, любезный собрат, будешь, подобно ему, нашим стражем, бойцом Арзамаса, смело сразишься с гидрой Беседы и с сим нелепым чудовищем, столь красноречиво предсказанном в известном стихе патриарха Славенофилов:
Чудище обло, озорно, огромно, трезевно и лаяй.
Пусть лает сие чудище, пусть присоединятся к нему и все другие Церберы, по образу и по подобию его сотворенные; но пусть лают они издали, не смея вредить дарованиям, возбуждающим зависть и злобу их.
Так, добрый Вот, ты рассказывал о древних грехах твоих и, слыша в памяти вой и крик полицейских, ты проливал слезы раскаяния… О несчастный, сии слезы были бесплодные: ты готов на грех новый, ужасный, сказать ли? На любодейство души! И вот роковая минута. Меркнет в глазах твоих свет Московской Беседы, и близок сундук Арзамаса. Ты погибал, поэт легковерный! Для тебя запираются врата Беседы старшей, и навсегда исчезают жетоны Академии. Но судьба еще жалеет тебя, она вещает: «Ты добрый человек, мне твой приятен вид». Есть средство спасения! Так, мой друг, есть средство. Оно в этой лохани. Взгляни – тут Липецкие Воды: в них очистились многие. Творец сей влаги, лишь вздумал опрыскать публику, и все переменилось. Баллады сделались грехом и посмешищем; достоинство стихов стали определять по сходству их с прозой, а достоинство комедий по лишним ролям. Что говорю я? Один ли вкус переменился? Все глупцы сделались умными, и в честных людях мы узнали извергов. То же будет с тобою. Окунись в эти воды и осмотрись: увидишь себя на краю пропасти. О пилигрим блуждающий, о пилигрим блудливый! Знаешь ли, где ты? Но расслепленный сухой водой узнаешь, узнаешь, что Арзамас есть пристань убийц, разбойников, чудовищ. Вот здесь они вокруг стола сидят
И об убийствах говорят,
Готовясь на злодейства новы.
Там на первом месте привидение, исчадие Тартара, с щетинистой брадой, с хвостом, с когтями, лишь только не с рогами; но вместо рогов торчит некое перо. Смотри, на нем, как на ружье охотника, навешана дичина, и где ж она настреляна? И в лесу университетском, и в беседных степях, и в театральном болоте. Увы! И в московском обществе. С ним рядом старушка, нарушительница мертвых: она взрывала могилы, сосет кровь из неопытной Музы, и под ней черный кот «Сын Отечества». За нею сидит с полуобритой бородой красная девушка; она проводит дни во сне, и ночи без сна перед волшебным зеркалом, и в зеркале мелькают скоты и Хвостов. И вот твое чудное зрелище. Ты видишь и не знаешь что видишь, гора ли это, или туча, или бездна, или эхо. Чу! Там кто-то стонет и мычит по-славянски. Но одни ли славяне гибнут в сей бездне? В ней погрязли и Макаров московский, и Анастасевич польский, и сей Хвостов не славянский и не русский. Над пропастью треножник, на нем тень Кассандры. Ей хочется трепетать, и предсказывать, и воздымать свои волосы, но пророчества не сбываются, и в волосах недостаток. Вдали плывет челнок еще пустой. Увы! Он скоро нагрузится телами. Из него выпрыгнул Кот и для забавы гложет не русского сына русской отчизны. А там Журавль с другим Хвостовым на носу. А там единственная, ветреная Арфа, без злодейств и без струн и, наконец, там Громобой-самоубийца: он проколол сердце, в коем был образ Беседы. Какое скопище безумных злодеев! Бедный Вот! Ты увидишь и ужаснешься; но берегись, берегись полотенца. Если оно сотрет воду прозрения, ты ослеп навсегда: злодеи будут твоими друзьями, безумцы твоими братьями. Избирай: тьма или свет? Вертеп или Беседа?
Непостижимы приговоры Провидения! Я, юный ратник на поле жизни, младший на полях Арзамаса, приемлю кого? Героя, поседевшего в бурях житейских, прославившегося давно под знаменами вкуса, ума и Арзамаса! Того, который первый водрузил хоругвь независимости на башнях Халдейских, первый прервал безмолвие робости, первый вырвал перо из крыла безвестного еще тогда Арзамасского Гуся, и пламенными чертами написал манифест о войне с противниками под именем послания к Светлане, и продолжал после вызывать врагов на частые битвы, битвы трудные, но навсегда увенчавшие сына Арзамасской крепости новой славой, новыми трофеями, новыми залогами победы. Не смею толковать приговоров судьбы, благоговею перед нею и с признательностью исполняю обязанность, возложенную на меня. Приди, о мой отче! О мой сын, ты, победивший все испытания, переплывший бурные пучины вод на плоту, построенном из деревянных стихов угрюмого певца с торжественным флагом, развевающим по воздуху бессмертные слова:
Прямой талант везде защитников найдет!
Ты, верной рукой поразивший урода Халдейского прямо в чело! Приди, ты, безбедно, но не без славы приставший к Арзамасскому брегу! Посвяти мокрую одежду свою коварному богу Липецких Вод и займи место свое между нами. Оно давно призывало тебя. Давно трапеза Арзамасская тосковала по собеседнику знаменитому, давно кладбище Халдейское требовало священных остатков сего певца угрюмого, сего Филина-великана, прокричавшего на гробах целую ночь, возмутившего сон усопших и погрузившего в сон живущих. Настал час удовлетворения. Почтеннейшие собратья! Он здесь, сей муж опыта, он заседает с нами; на открытом челе его читаю зрелые надежды и вечную славу Арзамаса. Еще рука его дымится чернилами; еще взор его, упоенный благородным тщеславием, указывает нам на труп распростертый, хладный, как Пожарский, Минин и Гермоген, бездушный, как Петр Великий или, по словам одного Арзамасца, Петр долгой, безобразный, как оды, читанные в Беседе[18 - Намеки на поэмы князя Шихматова.].
Излишне и дерзновенно было бы хотеть мне руководствовать тебя моими советами. Семена Арзамасских правил давно таились в душе твоей, и уже некоторые из противников Арзамаса подавились ранними плодами, взращенными от них усердием твоим, угадавшим, что некогда перенесутся они на почву благословенную, на землю обетованную. Судьба, отворившая тебе двери святилища после всех и, и так сказать, замыкающая тобою торжественный ряд Арзамасских Гусей, хотела оправдать знаменитое предсказание, что некогда первые будут последними, а последние первыми. Сердце мое и рассудок удостоверяют меня в справедливости моей догадки. Так! Ты будешь Староста Арзамаса. Благодарность и осторожность вручат тебе патриархальный посох. Арзамасский Гусь приосенит чело твое покровительствующим крылом и охранит его от коварного крыла времени – сего алчного ястреба, «скалящего зубы»[19 - Хвостов в одной басне своей придал зубы голубю.] на все, что носит на себе печать дарования вкуса и красоты. Но если пророчество мое одна мечта, то по крайней мере современники мои и потомство скажут о нем вздохнувши: Жаль, что не исполнился сон доброго человека.
Правила почтеннейшего нашего сословия повелевают мне, любезнейшие Арзамасцы, совершить себе самому надгробное отпевание, но я не почитаю себя умершим. Напротив того, я воскрес: ибо нахожусь посреди вас; я воскрес, ибо навсегда оставляю мертвых умом и чувствами. Не мертв ли духом и умом тот, который почитает Омира и Виргилия скотами, который не позволяет переводить Тасса и в публичном, так называемом ученом, собрании ругает Горация? Не мертв ли чувствами и тот, который прекрасные баллады почитает творением уродливым, а сам пишет уродливые оды и не понимает того, что ему предстоят не рукоплескания, но свистки и Мидасовы уши.
Ныне, говоря об ушах Мидасовых, долгом почитаю обратиться к пресловутой Петербургской Беседе. О сколько тут длинных ушей находится! Сколько мы в ней встречаем старых, юных, сухих, чреватых, бледных и румяных Мидасов! Беседа Петербургская ни в чем, конечно, Московской не уступает, но, по моему мнению, во всем ее превосходит.
К сожалению моему, я исполню сердца любезных Арзамасцев чувствительной горестью. А возвещу вам кончину юноши, в детстве ума и детстве телесном пребывающего, юноши достойнейшего, питомца великого патриарха Халдеев, утверждающего, что тротуары должны называться пешниками, а жареный гусь печениной; юноши, которому кортик[20 - Говорится про моряка князя Шихматова. – Напомним читателю, что в Арзамасе в каждом заседании отпевали и хоронили кого-нибудь из членов Беседы.] не препятствовал держать в руке перо на бесславие литературы, но во славу досточестной Беседы.
Тщетно я силюсь, чувством гнетомый (позвольте мне употребить собственные слова умершего), тщетно я силюсь изобразить все происходящее в Беседе. Она лишается наилучших усастых сочленов своих.
Тучей над ними гибель висит.
Туча обрушась варваров губит,
Губит их глупость, губит бесстыдство,
Губит их уши, губит язык.
Тысяща поприщ телами полны,
Множеству теней тесен стал ад.
Так точно! Они валятся, как мухи от мухоморов, и мы здесь, в почтеннейшем нашем собрании, отпеваем их, превозносим и удивляемся их дарованиям. Например, как не дивиться творцу лирического песнопения! Сотворить поэму, в которой находится неисчислимое множество строф, и нет поэмы; отказаться навсегда от Аполлона и Муз, и несмотря на то заниматься поэзией? Не ему ли одному сие предстояло? Не он ли воспел, как от грозного взора патриарха Халдейского Гальское слово умирает на устах каждого. Не ему ли надлежало на такой предмет сочинить оду? Изящный талант превозмогал все трудности, и вместе с талантом возрастали и уши лирикопеснопевца. Нет более невинного умом и телом. Он лежит бездыханным.
Обратимся, слушатели, к плачевному сему зрелищу. Следуйте за мной в мрачную храмину, обитую академическими сочинениями! Горящие свещи, обернутые в Письма Схимника, освещают воздвигнутый усопшему катафалк. Рассуждение о старом и новом слоге служит ему возглавием, рассуждение об одах в деснице его, Бдения Тассовы, похвальные слова и переводы Андромахи, Ифигении, Гамлета и Китайской Сироты лежат у подножия гроба. Патриарх Халдеев изрыгает корни слов в ужасной горести своей. Он, уныло преклонив седо-желтую главу свою, машет над лежащими в гробе Известиями Академическими и кадит в него прибавлением к прибавлениям. Он не чувствует, что тем лишь умножаются печаль, скука и угрюмость друзей, хладный труп окружающих. Плодовитый творец бесчисленных и бессмысленных од, палач Депрео и Расина, стоит смиренно над гробом и, осыпая умершего грязью и табаком, бормочет стихи в похвалу его. Увы! Он еще сплел их до кончины несчастного, успел напечатать, ибо любит писать стихи и отдавать в печать, раздает их сотоварищам своим, и сотоварищи и едва знающий грамоте, беснуясь, топает ногами и стучит крючковатой тростью. Толсточреватый сочинитель «Липецких Вод» кропит ими в умершего и тщится согреть его овчинными шубами своими. Но все тщетно: он лежит бездыханен! Давно ли я дерзновенный воспевал невинного юношу, именуя его Варягороссом и кумом Славенофила? И се успе! Длинные уши его повисли, уста охладели, ноги протянулись. Стихотворения песнопевца, в которых столь мало глаголов и столь много пустоглаголения, останутся навсегда в подвалах Глазунова и Заикина, останутся на съедение стихожадным крысам, и даже сам патриарх Халдейский забудет о них!
О vanitas vanitatum omnia vanitas.
Почтеннейшие сограждане Арзамаса! Я не будут исчислять подвигов ваших. Они всем известны. Я скажу только, что каждый из вас приводит сочлена Беседы в содрогание, точно так, как каждый из них производит в собрании нашем смех и забаву. Да вечно сие продолжится! Что с нами будет, если не будет, если не будет Известий Академических! Что нам останется делать, если патриарх Халдейский перестанет безумствовать в разборе происхождения слов и принимать черное за белое? Куда сокроем мы, если толсточреватый комик догадается, что комедия его не что иное суть, как печать глупости, злобы и невежества? Какая нам будет польза в том, если неутомимый рифмоткач узнает наконец, что у козла нет свиной туши, а у голубей зубов, точно так, как нет здравого рассудка в стихах его; не совершенная ли беда для нас будет, если Мидасы, оглянувшись друг на друга, приметят, что уши их еще длиннее похвальных слов, читаемых в пресловутой их Беседе? Да сохранит нас от того златовласый Феб и Музы. Пусть сычи вечно останутся сычами: мы вечно будем удивляться многоплодным их произведениям, вечно отпевать их, вечно забавляться их трагедиями, плакать и зевать от их комедий, любоваться нежностью их сатир и колкостью их мадригалов. Вот чего я желаю, и чего вы, любезнейшие товарищи, должны желать непрестанно для утешения и чести Арзамаса.
* * *
«Меня насильно обвенчали», – жаловался приятелю своему один муж, недовольный своим брачным положением.
«Да как же так? – возразил ему приятель, – ведь священник спрашивал же тебя: имаши ли благое и непринужденное произволение пояти себе в жену юже пред собою видеши?»
«Да, теперь помнится, у меня что-то такое спрашивали, да тогда я не спохватился отвечать, а нынче уже поздно: не воротишь! Вот мы недавно отпраздновали и серебряную свадьбу у тещи в деревне. Бог с нею совсем!»
* * *
А иногда и серебряные свадьбы развязываются. Карамзин рассказывал про одну знакомую ему чету. Были именины мужа; заботливая жена заготовила ему с полдюжины сюрпризов, разные подарки, обед на славу, пир на весь мир, вечером спектакль и бал; одним словом, торжество на целые сутки. Муж был не в духе и все это принял брюзгливо. Когда кончился день и гости разъехались, он пенял жене, что она сделала большие издержки, что все это одна суетность, и так далее, и так далее. На следующий год, в день совершившегося двадцатипятилетнего брачного счастья, жена, помня прошлогоднее головомытье, ничего не готовит для празднования этого дня. Она молчит, и муж молчит. День прошел ничем не отмеченный. Недовольный супруг пеняет жене своей за невнимание ее, за равнодушие, за холодность. Она сердито отвечает, что худо была прошлого года вознаграждена за все свои сердечные заботы и за желание угодить ему. Муж пуще сердится, разговор обращается в крупный спор, спор в ссору, ссора чуть ли не в драку. На другой день двадцатипятилетние супруги навсегда разъехались.
* * *
Перовский написал амфигури (anphigouri), шуточную, веселую чепуху. Вот некоторые стихи из нее:
Авдул-визирь
На лбу пузырь
И холит и лелеет;
А Паний сын,
Взяв апельсин,
уже не помню, что из него делает. Но такими стихами написано было около дюжины куплетов. Он приносит их к Антонскому, тогдашнему ректору университета и председателю общества любителей словесности, знакомит его с произведением своим и говорит, что желает прочесть стихи свои в первом публичном заседании общества. Не должно забывать, что в то время граф Алексей Кириллович Разумовский был попечителем Московского университета, или уже министром народного просвещения. Можно вообразить себе смущение робкого Антонского. Он, краснея и запинаясь, говорит: «Стишки-то ваши очень-то милы и замысловаты-то; но, кажется, не у места читать их в ученом собрании-то». Перовский настаивает, что хочет прочесть их, уверяя, что в них ничего противоцензурного нет. Объяснения и пререкания продолжались с полчаса. Бедный Антонский бледнел, краснел, изнемогал чуть не до обморока.
А вот еще проказа Перовского. Приятель его был женихом. Отчим невесты был человек так себе. Перовский уверил его, что и он страстно влюблен в невесту приятеля своего, что он за себя не отвечает и готов на всякую отчаянную проделку. Отчим, растроганный и перепуганный таким признанием, увещевает его образумиться, одолеть себя. Перовский пуще предается своим сетованиям и страстным разглагольствованиям. Отчим не отходит от него, сторожит, не спускает его с глаз, чтобы вовремя предупредить какую-нибудь беду. Это продолжается с неделю и более. Раз все семейство гуляет в саду. Отчим идет рука под руку с Перовским, который продолжает нашептывать, но вдруг вырывается из рук его и бросается в пруд, мимо которого они шли. Перовский знал, что этот пруд был не глубок, и не боялся утонуть, но пруд был грязный и покрытый зеленой тиной. Надобно было видеть, как вылез он из него зеленою русалкой и как Ментор ухаживал за своим злополучным Телемаком: одел его своим халатом, поил теплой ромашкой и так далее, и так далее.
Другой проказник-мистификатор читает в «Петербургских Ведомостях», что такой-то барин объявил о желании иметь на общих издержках попутчика в Казань. На другой день, в четыре часа поутру, наш мистификатор отправляется по означенному адресу и велит разбудить барина. Тот выходит к нему и спрашивает, что ему угодно. «А я пришел, – отвечает он, – чтобы извиниться и доложить вам, что я на вызов ваш собирался предложить вам товарищество свое, но теперь, по непредвидимым обстоятельствам, раздумал ехать с вами и остаюсь в Петербурге. Прощайте: желаю вам счастливого пути!»
Кажется, этот мистификатор чуть не был ли сродни Перовскому.
* * *
Когда образовалось Арзамасское общество, пригласили и В. Л. Пушкина принять в нем участие. Притом его уверили, что это общество род литературного масонства и что при вступлении в ложу нужно подвергнуться некоторым испытаниям, довольно тяжелым. Пушкин, который уже давно был настоящим масоном, легко и охотно согласился на все предстоящие искушения.
Тут воображение Жуковского разыгралось. Он был не только гробовых дел мастер, как мы прозвали его по балладам, но и шуточных и шутовских дел мастер. Странное физиологическое и психическое совпадение! При натуре идеальной, мечтательной, несколько мистической, в нем были и сокровища веселости, смешливости: в нем были зародыши и залоги карикатуры и пародии, отличающиеся нередко острой замысловатостью. Прием Пушкина вдохновил его. Он придумал и устроил разные мытарства, через которые новобранец должен был пройти. Тут пошли в дело и в символ, и «Липецкие Воды» Шаховского, и «Расхищенные Шубы» его, и еще Бог весть что. Барыня-Арзамас требует весь туалет: вот вся Славянофильская Беседа заочно всполошилась, вспрыгнула с усыпительных кресел и прибежала, или притащилась на крестины новорожденного Арзамасца.
Приводим здесь речи, которые были произнесены при этом торжественном обряде. Они познакомят непосвященных и несведущих с Арзамасскими порядками. Много было тут шалости и, пожалуй, частью и вздорного, но не мало было и ума, и веселости. В старой Италии было множество подобных академий, шуточных, по названию и некоторым обрядам своим, но не менее того обратившихся на пользу языка и литературы. Может быть, и Арзамас, хотя не долго просуществовавший, принес свою долю литературной пользы. Во-первых, это было новое скрепление литературных и дружеских связей, уже существовавших прежде между приятелями. Далее, это была школа взаимного литературного обучения, литераторского товарищества. А главное, заседания Арзамаса были сборным местом, куда люди разных возрастов, иногда даже и разных воззрений и мнений по другим посторонним вопросам, сходились потолковать о литературе, сообщить друг другу свои труды и опыты и остроумно повеселиться и подурачиться.
Речи, читанные при приеме в Арзамасское общество Василия Львовича Пушкина
Какое зрелище перед очами моими? Кто сей, обремененный столькими шубами страдалец? Сердце мое говорит, что это почтенный В. Л. Пушкин, тот Василий Львович, который снизошел со своей Музой, чистой девой Парнаса, в обитель нечистых барышень покушения, и вывел ее из сего вертепа не осрамленной, хотя и близок был сундук[14 - Поэма Пушкина «Опасный Сосед».]; тот Василий Львович, который видел в Париже не одни переулки[15 - Шишков где-то намекал, что Пушкин таскался только по парижским улицам и переулкам.], но г. Фонтаня и г. Делиля; тот В.Л., который могуществом гения обратил дородного Крылова в легкокрылую малиновку. Все это говорит мне мое сердце. Но что же говорят мне мои очи? Увы! Я вижу перед собой одну только груду шуб. Под сей грудою существо друга моего, орошенное хладным потом. И другу моему не жарко. И не будет жарко, хотя бы груда сия возвысилась до Олимпа и давила его как Этна Энцелада. Так точно! Сей В. Л. есть Энцелад: он славно вооружился против Зевеса-Шутовского и пустил в него увесистый стих, раздавивший ему чрево. Но что же? Сей издыхающий наслал на него, смиренно пешествующего к Арзамасу, мятель Расхищенных Шуб. И не спасла его девственная Муза, матерь Буянова. И лежит он под страшным сугробом шуб прохладительных[16 - Намек на острословие графа Д. Н. Блудова: Ты в «Шубах» Шутовский холодный; в «Водах» ты Шутовский – сухой.]. Очи его постигла куричья слепота Беседы; тело его покрыто проказой сотрудничества, и в членах его пакость Академических Известий, издаваемых г. Шишковым. О друг наш! Скажу тебе просто твоим же непорочным стихом: терпение, любезный! Сие испытание конечно есть мзда справедливая за некие тайные грехи твои. Когда бы ты имел совершенную чистоту Арзамасского гуся, тогда бы прямо и беспрепятственно вступил в святилище Арзамаса; но ты еще скверен; еще короста Беседы, покрывающая тебя, не совсем облупилась. Под сими шубами испытания она отделится от твоего состава. Потерпи, потерпи, Василий Львович. Прикасаюсь рукой дружбы к мученической главе твоей. Да погибнет ветхий В.Л.! Да воскреснет друг наш возрожденный Вот! Рассыптесь шубы! Восстань, друг наш! Гряди к Арзамасу! Путь твой труден. Ожидает тебя испытание. Чудище обло, озорно, трезевно и лаяй ожидает тебя за сими дверями. Но ты низложи сего Пифона, облобызай сову правды, прикоснись к лире мщения, умойся водой потока и будешь достоин вкусить за трапезой от Арзамасского гуся, и он войдет в святилище желудка твоего без перхоты и изыдет из оного без натуги.
Не страшись, любезный странник, и смелыми шагами путь свой продолжай. Твоему ли чистому сердцу опасаться испытаний? Тебе ли трепетать при виде пораженного неприятеля? Мужайся! Уже ты освобожден от прохладительного удушья чудотворных шуб, и переход твой из одного круга подлунных храмин очищения в другой уже ознаменован великим событием. Ты пришел, увидел и победил, и совесть твоя, несмотря на изможденный лик растерзанного врага Арзамаса, спокойна. Так, любезный странствователь и будущий согражданин! Я нахожу на лице твоем все признаки тишины, всегда украшающей величавую осанку живого Арзамасского знака! Какое сходство в судьбах любимых сынов Аполлона! Ты напоминаешь нам о путешествии предка твоего Данта. Ведомый божественным Вергилием в подземных подвалах царства Плутона и Прозерпины, он презирал возрождавшиеся препятствия на пути его, грозным взором убивал порок и глупость, с умилением смотрел на несчастных жертв страстей необузданных и, наконец, по трудном испытании, достиг земли обетованной, где ждали его венец и Беата. Гряди подобно Данту, повинуйся спутнику твоему; рази без милосердия тени Мешковых и Шутовских и помни, что «прямой талант везде защитников найдет». Уже звезда восточная на высоте играет; стремись к лучезарному светилу; там при его сиянии ты вместо Беаты услышишь пение Соловья и Малиновки[17 - Басня, сочинение В. Л. Пушкина, которую он особенно любил читать.], и чувства твои наполнятся приятнейшими воспоминаниями.
Принимая с сердечным умилением тебя, любезный товарищ, в недра отечественного Арзамаса, можем ли мы от тебя сокрыть таинственное значение обрядов и символов наших? Можем ли оставить на глазах твоих мрачную завесу невежества беседного? Нам ли следовать примеру Бесед, сих рыкающих Сцилл и Харибд, между коими ты доныне плавал, и, подобно клевретам, тщательно прятать от слушателей и сочленов, даже от самих себя, здравый, обыкновенный смысл и самые обыкновенные познания? Что нам до Бесед? Арзамас далек от них, как Восток от Запада, как водяной Шутовский далек от Мольера, а дед седой от Лагарпа. Нет! Сердца и таинства наши равно открыты новому нашему собрату, защитнику вкуса, врагу Славянского варварства.
Вступая в сие святилище, ты на каждом шагу видишь цель и бытописания нашего общества. Ты переносишься в трудные времена, предшествовавшие обновлению благословенного Арзамаса, когда мы скитались в стране чуждой, дикой, между гиенами и онаграми, между Халдеями Беседы и Академии. На каждом шагу видишь следы претерпенных нами бурь и преодоленных опасностей, прежде нежели мы соорудили ковчег Арзамаса, дабы спастись в нем от потопа Липецкого. С непроницаемой повязкой на глазах блуждал ты по опустевшим чертогам; так и бедные читатели блуждают в мрачном лабиринте Славенских периодов, от страницы до страницы вялые свои члены простирающих. Ты ниспускался в глубины пропасти: так и досточудные внуки седой Славены добровольно ниспускаются в бездны безвкусия и бессмыслицы. Ты мучился под символическими шубами, и обильный пот разливался по телу твоему, как бы при виде огромной мелко исписанной тетради в руках чтеца беседного. Может быть, роптал ты на излишнюю теплоту сего покрова; но где же было взять шуб холодных? Они остались все в поэме Шутовского! Потом у священных врат представился взорам твоим бледный, иссохший лиц Славенофила: глубокие морщины, собранные тщательно с лиц всех усопших прабабушек, украшали чело его; глаза не зря смотрели на нового витязя Арзамаса, а из недвижных уст, казалось, исходил грозящий голос: «Чадо! Возвратися вспять в Беседу вторую, из нея же исшел еси!» Но тебе ли устрашиться суетного гласа? Ты извлек свой лук, который подобно луку Ионафана от крове язвеных и от тука сильных не возвратися тощ вспять, наложил вместо стрелы губительный стих: Нам нужны не слова, нам нужно просвещенье…, и призрак упал, извергая из уст безвредный свой пламень. Не так ли упал перед тобой и сам Славенофил, тщетно твердя о парижских переулках! Наконец, совершены все испытания. Уста твои прикоснулись к таинственным символам: к Лире, конечно, не Хлыстова и не Барабанова, и к Сове, сей верной подруге Арзамасского Гуся, в которой истинные Арзамасцы чтят изображение сокровенной мудрости. Не Беседе принадлежит сия посланница Афин, хотя седой Славенофил и желал себе присвоить ее в следующей песне, достойной беседных Анакреонов:
Сидит сова на печи,
Крылышками трепелючи;
Оченьками лоп, лоп,
Ноженьками топ, топ.
Нет, не благородная Сова, но безобразный нетопырь служит ему изображением, ему и всем его клевретам.
Настала минута откровений. Приблизься, почтенный Вот, новый любезный собрат наш! Прими же из рук моих истинный символ Арзамаса, сего благолепного Гуся, и с ним стремись к совершенному очищению. В потоке Липецком омой остатки беседные скверны, сей грубой коры, которую никогда не могут проникнуть лучи здравого рассудка; и потом, с Гусем в руках и сердце, займи место, давно тебя ожидающее. Таинственный Гусь сей да будет отныне всегдашним твоим путеводителем. Не ищи его происхождения в новейших баснях: в них Гуси едва ли опрятнее свиней собственных! Гусь наш достоин предков своих. Те спасли Капитолий от внезапного нападения галлов, а сей бодрственно охраняет Арзамас от нападений беседных Халдеев и щиплет их победоносным своим клювом. И ты, любезный собрат, будешь, подобно ему, нашим стражем, бойцом Арзамаса, смело сразишься с гидрой Беседы и с сим нелепым чудовищем, столь красноречиво предсказанном в известном стихе патриарха Славенофилов:
Чудище обло, озорно, огромно, трезевно и лаяй.
Пусть лает сие чудище, пусть присоединятся к нему и все другие Церберы, по образу и по подобию его сотворенные; но пусть лают они издали, не смея вредить дарованиям, возбуждающим зависть и злобу их.
Так, добрый Вот, ты рассказывал о древних грехах твоих и, слыша в памяти вой и крик полицейских, ты проливал слезы раскаяния… О несчастный, сии слезы были бесплодные: ты готов на грех новый, ужасный, сказать ли? На любодейство души! И вот роковая минута. Меркнет в глазах твоих свет Московской Беседы, и близок сундук Арзамаса. Ты погибал, поэт легковерный! Для тебя запираются врата Беседы старшей, и навсегда исчезают жетоны Академии. Но судьба еще жалеет тебя, она вещает: «Ты добрый человек, мне твой приятен вид». Есть средство спасения! Так, мой друг, есть средство. Оно в этой лохани. Взгляни – тут Липецкие Воды: в них очистились многие. Творец сей влаги, лишь вздумал опрыскать публику, и все переменилось. Баллады сделались грехом и посмешищем; достоинство стихов стали определять по сходству их с прозой, а достоинство комедий по лишним ролям. Что говорю я? Один ли вкус переменился? Все глупцы сделались умными, и в честных людях мы узнали извергов. То же будет с тобою. Окунись в эти воды и осмотрись: увидишь себя на краю пропасти. О пилигрим блуждающий, о пилигрим блудливый! Знаешь ли, где ты? Но расслепленный сухой водой узнаешь, узнаешь, что Арзамас есть пристань убийц, разбойников, чудовищ. Вот здесь они вокруг стола сидят
И об убийствах говорят,
Готовясь на злодейства новы.
Там на первом месте привидение, исчадие Тартара, с щетинистой брадой, с хвостом, с когтями, лишь только не с рогами; но вместо рогов торчит некое перо. Смотри, на нем, как на ружье охотника, навешана дичина, и где ж она настреляна? И в лесу университетском, и в беседных степях, и в театральном болоте. Увы! И в московском обществе. С ним рядом старушка, нарушительница мертвых: она взрывала могилы, сосет кровь из неопытной Музы, и под ней черный кот «Сын Отечества». За нею сидит с полуобритой бородой красная девушка; она проводит дни во сне, и ночи без сна перед волшебным зеркалом, и в зеркале мелькают скоты и Хвостов. И вот твое чудное зрелище. Ты видишь и не знаешь что видишь, гора ли это, или туча, или бездна, или эхо. Чу! Там кто-то стонет и мычит по-славянски. Но одни ли славяне гибнут в сей бездне? В ней погрязли и Макаров московский, и Анастасевич польский, и сей Хвостов не славянский и не русский. Над пропастью треножник, на нем тень Кассандры. Ей хочется трепетать, и предсказывать, и воздымать свои волосы, но пророчества не сбываются, и в волосах недостаток. Вдали плывет челнок еще пустой. Увы! Он скоро нагрузится телами. Из него выпрыгнул Кот и для забавы гложет не русского сына русской отчизны. А там Журавль с другим Хвостовым на носу. А там единственная, ветреная Арфа, без злодейств и без струн и, наконец, там Громобой-самоубийца: он проколол сердце, в коем был образ Беседы. Какое скопище безумных злодеев! Бедный Вот! Ты увидишь и ужаснешься; но берегись, берегись полотенца. Если оно сотрет воду прозрения, ты ослеп навсегда: злодеи будут твоими друзьями, безумцы твоими братьями. Избирай: тьма или свет? Вертеп или Беседа?
Непостижимы приговоры Провидения! Я, юный ратник на поле жизни, младший на полях Арзамаса, приемлю кого? Героя, поседевшего в бурях житейских, прославившегося давно под знаменами вкуса, ума и Арзамаса! Того, который первый водрузил хоругвь независимости на башнях Халдейских, первый прервал безмолвие робости, первый вырвал перо из крыла безвестного еще тогда Арзамасского Гуся, и пламенными чертами написал манифест о войне с противниками под именем послания к Светлане, и продолжал после вызывать врагов на частые битвы, битвы трудные, но навсегда увенчавшие сына Арзамасской крепости новой славой, новыми трофеями, новыми залогами победы. Не смею толковать приговоров судьбы, благоговею перед нею и с признательностью исполняю обязанность, возложенную на меня. Приди, о мой отче! О мой сын, ты, победивший все испытания, переплывший бурные пучины вод на плоту, построенном из деревянных стихов угрюмого певца с торжественным флагом, развевающим по воздуху бессмертные слова:
Прямой талант везде защитников найдет!
Ты, верной рукой поразивший урода Халдейского прямо в чело! Приди, ты, безбедно, но не без славы приставший к Арзамасскому брегу! Посвяти мокрую одежду свою коварному богу Липецких Вод и займи место свое между нами. Оно давно призывало тебя. Давно трапеза Арзамасская тосковала по собеседнику знаменитому, давно кладбище Халдейское требовало священных остатков сего певца угрюмого, сего Филина-великана, прокричавшего на гробах целую ночь, возмутившего сон усопших и погрузившего в сон живущих. Настал час удовлетворения. Почтеннейшие собратья! Он здесь, сей муж опыта, он заседает с нами; на открытом челе его читаю зрелые надежды и вечную славу Арзамаса. Еще рука его дымится чернилами; еще взор его, упоенный благородным тщеславием, указывает нам на труп распростертый, хладный, как Пожарский, Минин и Гермоген, бездушный, как Петр Великий или, по словам одного Арзамасца, Петр долгой, безобразный, как оды, читанные в Беседе[18 - Намеки на поэмы князя Шихматова.].
Излишне и дерзновенно было бы хотеть мне руководствовать тебя моими советами. Семена Арзамасских правил давно таились в душе твоей, и уже некоторые из противников Арзамаса подавились ранними плодами, взращенными от них усердием твоим, угадавшим, что некогда перенесутся они на почву благословенную, на землю обетованную. Судьба, отворившая тебе двери святилища после всех и, и так сказать, замыкающая тобою торжественный ряд Арзамасских Гусей, хотела оправдать знаменитое предсказание, что некогда первые будут последними, а последние первыми. Сердце мое и рассудок удостоверяют меня в справедливости моей догадки. Так! Ты будешь Староста Арзамаса. Благодарность и осторожность вручат тебе патриархальный посох. Арзамасский Гусь приосенит чело твое покровительствующим крылом и охранит его от коварного крыла времени – сего алчного ястреба, «скалящего зубы»[19 - Хвостов в одной басне своей придал зубы голубю.] на все, что носит на себе печать дарования вкуса и красоты. Но если пророчество мое одна мечта, то по крайней мере современники мои и потомство скажут о нем вздохнувши: Жаль, что не исполнился сон доброго человека.
Правила почтеннейшего нашего сословия повелевают мне, любезнейшие Арзамасцы, совершить себе самому надгробное отпевание, но я не почитаю себя умершим. Напротив того, я воскрес: ибо нахожусь посреди вас; я воскрес, ибо навсегда оставляю мертвых умом и чувствами. Не мертв ли духом и умом тот, который почитает Омира и Виргилия скотами, который не позволяет переводить Тасса и в публичном, так называемом ученом, собрании ругает Горация? Не мертв ли чувствами и тот, который прекрасные баллады почитает творением уродливым, а сам пишет уродливые оды и не понимает того, что ему предстоят не рукоплескания, но свистки и Мидасовы уши.
Ныне, говоря об ушах Мидасовых, долгом почитаю обратиться к пресловутой Петербургской Беседе. О сколько тут длинных ушей находится! Сколько мы в ней встречаем старых, юных, сухих, чреватых, бледных и румяных Мидасов! Беседа Петербургская ни в чем, конечно, Московской не уступает, но, по моему мнению, во всем ее превосходит.
К сожалению моему, я исполню сердца любезных Арзамасцев чувствительной горестью. А возвещу вам кончину юноши, в детстве ума и детстве телесном пребывающего, юноши достойнейшего, питомца великого патриарха Халдеев, утверждающего, что тротуары должны называться пешниками, а жареный гусь печениной; юноши, которому кортик[20 - Говорится про моряка князя Шихматова. – Напомним читателю, что в Арзамасе в каждом заседании отпевали и хоронили кого-нибудь из членов Беседы.] не препятствовал держать в руке перо на бесславие литературы, но во славу досточестной Беседы.
Тщетно я силюсь, чувством гнетомый (позвольте мне употребить собственные слова умершего), тщетно я силюсь изобразить все происходящее в Беседе. Она лишается наилучших усастых сочленов своих.
Тучей над ними гибель висит.
Туча обрушась варваров губит,
Губит их глупость, губит бесстыдство,
Губит их уши, губит язык.
Тысяща поприщ телами полны,
Множеству теней тесен стал ад.
Так точно! Они валятся, как мухи от мухоморов, и мы здесь, в почтеннейшем нашем собрании, отпеваем их, превозносим и удивляемся их дарованиям. Например, как не дивиться творцу лирического песнопения! Сотворить поэму, в которой находится неисчислимое множество строф, и нет поэмы; отказаться навсегда от Аполлона и Муз, и несмотря на то заниматься поэзией? Не ему ли одному сие предстояло? Не он ли воспел, как от грозного взора патриарха Халдейского Гальское слово умирает на устах каждого. Не ему ли надлежало на такой предмет сочинить оду? Изящный талант превозмогал все трудности, и вместе с талантом возрастали и уши лирикопеснопевца. Нет более невинного умом и телом. Он лежит бездыханным.
Обратимся, слушатели, к плачевному сему зрелищу. Следуйте за мной в мрачную храмину, обитую академическими сочинениями! Горящие свещи, обернутые в Письма Схимника, освещают воздвигнутый усопшему катафалк. Рассуждение о старом и новом слоге служит ему возглавием, рассуждение об одах в деснице его, Бдения Тассовы, похвальные слова и переводы Андромахи, Ифигении, Гамлета и Китайской Сироты лежат у подножия гроба. Патриарх Халдеев изрыгает корни слов в ужасной горести своей. Он, уныло преклонив седо-желтую главу свою, машет над лежащими в гробе Известиями Академическими и кадит в него прибавлением к прибавлениям. Он не чувствует, что тем лишь умножаются печаль, скука и угрюмость друзей, хладный труп окружающих. Плодовитый творец бесчисленных и бессмысленных од, палач Депрео и Расина, стоит смиренно над гробом и, осыпая умершего грязью и табаком, бормочет стихи в похвалу его. Увы! Он еще сплел их до кончины несчастного, успел напечатать, ибо любит писать стихи и отдавать в печать, раздает их сотоварищам своим, и сотоварищи и едва знающий грамоте, беснуясь, топает ногами и стучит крючковатой тростью. Толсточреватый сочинитель «Липецких Вод» кропит ими в умершего и тщится согреть его овчинными шубами своими. Но все тщетно: он лежит бездыханен! Давно ли я дерзновенный воспевал невинного юношу, именуя его Варягороссом и кумом Славенофила? И се успе! Длинные уши его повисли, уста охладели, ноги протянулись. Стихотворения песнопевца, в которых столь мало глаголов и столь много пустоглаголения, останутся навсегда в подвалах Глазунова и Заикина, останутся на съедение стихожадным крысам, и даже сам патриарх Халдейский забудет о них!
О vanitas vanitatum omnia vanitas.
Почтеннейшие сограждане Арзамаса! Я не будут исчислять подвигов ваших. Они всем известны. Я скажу только, что каждый из вас приводит сочлена Беседы в содрогание, точно так, как каждый из них производит в собрании нашем смех и забаву. Да вечно сие продолжится! Что с нами будет, если не будет, если не будет Известий Академических! Что нам останется делать, если патриарх Халдейский перестанет безумствовать в разборе происхождения слов и принимать черное за белое? Куда сокроем мы, если толсточреватый комик догадается, что комедия его не что иное суть, как печать глупости, злобы и невежества? Какая нам будет польза в том, если неутомимый рифмоткач узнает наконец, что у козла нет свиной туши, а у голубей зубов, точно так, как нет здравого рассудка в стихах его; не совершенная ли беда для нас будет, если Мидасы, оглянувшись друг на друга, приметят, что уши их еще длиннее похвальных слов, читаемых в пресловутой их Беседе? Да сохранит нас от того златовласый Феб и Музы. Пусть сычи вечно останутся сычами: мы вечно будем удивляться многоплодным их произведениям, вечно отпевать их, вечно забавляться их трагедиями, плакать и зевать от их комедий, любоваться нежностью их сатир и колкостью их мадригалов. Вот чего я желаю, и чего вы, любезнейшие товарищи, должны желать непрестанно для утешения и чести Арзамаса.
* * *
«Меня насильно обвенчали», – жаловался приятелю своему один муж, недовольный своим брачным положением.
«Да как же так? – возразил ему приятель, – ведь священник спрашивал же тебя: имаши ли благое и непринужденное произволение пояти себе в жену юже пред собою видеши?»
«Да, теперь помнится, у меня что-то такое спрашивали, да тогда я не спохватился отвечать, а нынче уже поздно: не воротишь! Вот мы недавно отпраздновали и серебряную свадьбу у тещи в деревне. Бог с нею совсем!»
* * *
А иногда и серебряные свадьбы развязываются. Карамзин рассказывал про одну знакомую ему чету. Были именины мужа; заботливая жена заготовила ему с полдюжины сюрпризов, разные подарки, обед на славу, пир на весь мир, вечером спектакль и бал; одним словом, торжество на целые сутки. Муж был не в духе и все это принял брюзгливо. Когда кончился день и гости разъехались, он пенял жене, что она сделала большие издержки, что все это одна суетность, и так далее, и так далее. На следующий год, в день совершившегося двадцатипятилетнего брачного счастья, жена, помня прошлогоднее головомытье, ничего не готовит для празднования этого дня. Она молчит, и муж молчит. День прошел ничем не отмеченный. Недовольный супруг пеняет жене своей за невнимание ее, за равнодушие, за холодность. Она сердито отвечает, что худо была прошлого года вознаграждена за все свои сердечные заботы и за желание угодить ему. Муж пуще сердится, разговор обращается в крупный спор, спор в ссору, ссора чуть ли не в драку. На другой день двадцатипятилетние супруги навсегда разъехались.
* * *