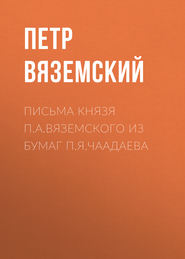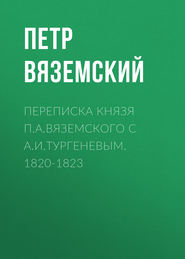По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Старая записная книжка. Часть 1
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
1825
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Карамзин был очень воздержан в еде и в питии. Впрочем, таковым был он и во всем, в жизни материальной и умственной: он ни в какие крайности не вдавался; у него была во всем своя прирожденная и благоприобретенная диететика.
Он вставал довольно рано, натощак ходил гулять пешком, или ездил верхом, в какую пору года ни было бы и в какую бы ни было погоду. Возвратясь, выпивал две чашки кофе, за ними выкуривал трубку табаку (кажется, обыкновенного кнастера) и садился вплоть до обеда за работу, которая для него была также пища и духовная и насущный хлеб. За обедом начинал он с вареного риса, которого тарелка стояла всегда у прибора его, и часто смешивал он рис с супом. За обедом выпивал рюмку портвейна и стакан пива, а стакан этот был выделан из дерева горькой квассии. Вечером, около 12-ти часов, съедал он непременно два печеные яблока. Весь этот порядок соблюдался строго и нерушимо, и преимущественно с гигиенической целью: он берег здоровье свое и наблюдал за ним, не из одного опасения болезней и страданий, а как за орудием, необходимым для беспрепятственного и свободного труда. Кажется, в последние годы жизни его вседневный порядок был несколько изменен; но в Москве держался он его постоянно в течение нескольких годов.
Мы сказали, что он был в пище воздержен. Был он вовсе и не прихотлив. Но как никогда не писал он наобум, так и есть наобум не любил. В этом отношении был он взыскателен. У него был свой слог и в пище: нужны были припасы свежие, здоровые, как можно более естественно изготовленные. Неопрятности, неряшества, безвкусия не терпел он ни в чем. Обед его был всегда сытный, хорошо приготовленный и не в обрез, несмотря на общие экономические порядки дома. В Петербурге два-три приятели могли всегда свободно являться к обеду его и не возвращались домой голодными.
В 1816 году обедал он у Державина. Обед был очень плохой. Карамзин ничего есть не мог. Наконец к какому-то кушанью подают горчицу; он обрадовался, думая, что на ней отыграться можно и что она отобьет дурной вкус: вышло, что и горчица была невозможна.
Державин был более гастроном в поэзии, нежели на домашнем очаге. У него встречаются лакомые стихи, от которых слюнки по губам так и текут. Например:
Там славный окорок Вестфальской,
Там звенья рыбы Астраханской,
Там плов и пироги стоят.
Шампанским вафли запиваю.
В двух первых стихах рифма довольно тощая, но содержание стихов сытное. – Или:
Багряна ветчина, зелены щи с желтком,
Румяно-желт пирог, сыр белый, раки красны.
Тут есть и янтарь-икра, и щука с голубым пером. А эта прелесть:
Младые девы угощают,
Подносят вина чередой:
И Алиатико с Шампанским,
И пиво русское с Британским,
И Мозель с Зельцерской водой.
* * *
Одно лицо, довольно значительное в городе, имело обыкновение забирать через посланного в Ренских погребах с дюжину бутылок разных вин, дескать на пробу. Эти постоянно-пробные вина служили украшением стола в дни тезоименитства хозяина или в другие торжественные семейные дни. Дома срывал он ярлыки с бутылок и, для вящего эффекта, импровизировал свои, которые и записывались крупными буквами рукой канцелярского служителя, например: Дрей-лафит, Шато-малага, настоящее английское шампанское первого сорта, и так далее.
* * *
По возвращении наших войск из Парижа, ходило в обществе много забавных анекдотов о неожиданных приключениях некоторых из наших офицеров, не знавших французского языка.
Например, входит офицер в ресторан и просит diner, по заученному им слову. Ему подают карту и карандаш. Он ничего разобрать не может и смело отхватывает карандашом первые четыре кушанья, означенные на карте. «Странный обед у этих французов, – говорил он после, – мне подали четыре тарелки разных супов». Дело в том, что, по незнанию французской грамоты, он размахнулся карандашом по графе potages.
Другой, немножко маракующий по-французски, но не вполне обладающий языком, говорил: «Какие шарлатаны и обманщики эти французы! Захожу я в ресторан, обедаю, гарсон предлагает мне, не хочу ли я свежие пети-пуа. Я думаю, почему не попробовать, что такие за пети-пуа, и велел подать. Что же вышло? Подали мне простой горошек (petit pois)».
Денис Давыдов вывез из похода много таких анекдотов и уморительно забавно рассказывал их.
* * *
Хозяин дома, подливая себе рому в чашку чая и будто невольным вздрагиванием руки переполнивший меру, вскрикнул: ух! Потом предлагает он гостю подлить ему адвокатца (выражение, употребляемое в среднем кругу и означающее ром или коньяк, то есть адвокатец, развязывающий язык), но подливает очень осторожно и воздержано. «Нет, – говорит гость, – сделайте милость, ухните уже и мне».
* * *
В начале 20-х годов московская молодежь была приглашена на Замоскворецкий бал к одному вице-адмиралу, состоявшему более по части пресной воды. За ужином подходит он к столу, который заняли молодые люди. Он спрашивает их: «Не нужно ли вам чего?» – «Очень нужно, – отвечают они, – пить нечего».
«Степашка! – кричит хозяин. – Подай сейчас этим господам несколько бутылок кислых щей». Вот картина! Сначала общее остолбенение, а потом дружный хохот.
* * *
Была приятельская и помещичья попойка в деревне ** губернии. Во время пиршества дом загорелся. Кто мог, опрометью выбежал. Достопочтенный А. выбежать не мог: его вынесли и положили наземь на дворе. Послышались встревоженные крики: воды, воды! Спросонья А. услышал их и несколько сиповатым голосом сказал: «Кому воды, а мне водки!» (рассказано свидетелем).
* * *
За обедом, на котором гостям удобно было петь с Фигаро из оперы Россини: Cito, cito, piano, piano (то есть сыто, сыто, пьяно, пьяно), Американец Толстой мог быть, разумеется, не из последних запевальщиков. В конце обеда подают какую-то закуску или прикуску. Толстой отказывается. Хозяин настаивает, чтобы он попробовал предлагаемое, и говорит: «Возьми, Толстой, ты увидишь, как это хорошо; тотчас отобьет весь хмель». – «Ах Боже мой! – воскликнул тот, перекрестясь, – да за что же я два часа трудился? Нет, слуга покорный, хочу оставаться при своем».
Он же одно время, не знаю по каким причинам, наложил на себя эпитимию и месяцев шесть не брал в рот ничего хмельного. В самое то время совершались в Москве проводы приятеля, который отъезжал надолго. Проводы эти продолжались недели две. Что день, то прощальный обед или прощальный ужин. Все эти прощания оставались, разумеется, не сухими. Толстой на них присутствовал, но не нарушал обета, несмотря на все приманки и увещания приятелей, несмотря, вероятно, и на собственное желание. Наконец назначены окончательные проводы в гостинице, помнится, в селе Всесвятском. Дружно выпит прощальный кубок, уже дорожная повозка у крыльца. Отъезжающий приятель сел в кибитку и пустился в путь. Гости отправились обратно в город. Толстой сел в сани с Денисом Давыдовым, который (заметим мимоходом) не давал обета в трезвости. Ночь морозная и светлая. Глубокое молчание. Толстой вдруг кричит кучеру: «Стой!» Сани остановились. Он обращается к попутчику и говорит: «Голубчик Денис, дохни на меня!»
Воля ваша, а в этом дохни много поэзии. Это целая элегия! Оно может служить содержанием и картине; был бы только живописец, который бы постиг всю истину и прелесть этой сцены и умел выразить типические личности Дениса Давыдова и Американца Толстого.
* * *
Заключим длинную нашу застольную хронику рассказом о столовом приключении, которое могло кончиться и трагически, и комически.
Однажды проезжал из-за границы в Россию через Варшаву Петр Михайлович Лунин. С начала столетия, и ранее, был он очень известен обществам петербургскому и московскому. Его любили, а часто и забавлялись слабостями его. В числе их была страсть вышивать основу рассказов своих разными фантастическими красками и несбыточными узорами. Но все это было безобидно.
Давно знакомый с Н. Н. Новосильцевым, Лунин заехал к нему. Тот пригласил его на обед. «Охотно, – отвечал Лунин, – но под одним условием: со мной ездит приятель мой и дядька (Лунин был тогда уже очень стар), позволь мне и его привезти». Оказалось, что это был старый французский повар, кажется, по имени Aime, который долго практиковался в Петербурге и не без достоинства. Новосильцев посмеялся при такой странной просьбе, но, разумеется, согласился на нее.
За обедом было только несколько русских, в числе их князь Александр Сергеевич Голицын (один из младших сыновей известного князя Сергея Федоровича), полковник гвардейского уланского полка. По волосам слыл он рыжим Голицыным. Он был любим в Варшаве и поляками, и земляками. Отличался он некоторым русским удальством и остроумием, мог много выпить, но никогда не напивался, а только, по словам дорогих собутыльников, видно было, как пар подымается из рыжей головы его.
Этот Голицын за обедом у Новосильцева отпустил какую-то шутку, направленную на Людовика XVIII. Это происходило в первые годы реставрации. Сотрапезник-повар встает со стула и громко говорит: «Тот негодяй (так переводим мы крепкое французское выражение, употребленное поваром), кто осмеливается оскорбить священную особу короля. Я готов подтвердить слова свои, где и как угодно. Не первую рану получу я за короля своего». И тут же снимает он свой фрак, засучивает рукав рубашки и указывает на руку. Была ли получена эта рана от кухонного ножа или от шпаги, в достоверности неизвестно; но вызов был сделан в формальном порядке.
Можно вообразить себе общее удивление и смущение. Голицын принимает вызов. Много стоило труда Новосильцеву и некоторым из присутствующих, чтобы умирить эту бурю и уладить дело без кровопролития. Нечего и говорить, как много было бы несообразного и дикого в поединке русского князя, русского полковника с французским кухмистером. В начале было не до смеха, но после много и долго смеялись этой застольной стычке.
* * *
Профессор Московского университета, Шлёцер, сын знаменитого нашего Несторианца, пользовался в Москве известностью и уважением, едва ли не в лучшую пору процветания Московского университета. В то время выписываемы были для преподавания некоторые европейские знаменитости. Они нисколько не давили и не заслоняли развития отечественных дарований; напротив, отсюда выходило полезное соревнование.
Говорят о вреде замкнутых учебных заведений для успешного образования юношества; но можно многое сказать и о среде замкнутого и одностороннего преподавания. Свежие и навеваемые извне притоки воздуха очищают внутреннюю температуру и придают ей гигиеническую силу. Мечты о какой-то народной, доморощенной науке и требования на посев и обработку ее – не что иное, как ребячество и прихоть узкого патриотизма. Когда наука раздробится на пограничные и чересполосные участки, тогда науки не будет, а останутся одни учебники.
* * *
Шлёцер был притом красивый и плотный мужчина. Он давал уроки в доме К., молодому сыну. Ему показалось, что во время уроков мать ученика очень часто приходит в учебную комнату и нежно и вызывающе заглядывается на учителя. Целомудренная натура немецкого Иосифа содрогнулась от покушений новой Потифаровой жены. Вскоре затем пишет он мужу, что не может продолжать давать уроки сыну, потому что подметил, что г-жа К. влюблена в него.
* * *
Под пару целомудренному Иосифу-Шлёцеру выведем еще ученого и не менее благочестивого немца. До имени его дела нет. Он был, однажды, за вечерним чаем у Карамзиных в Царском Селе. Приезжает туда же княгиня Г-на, которой он не знал. Зашла речь о Жуковском и сочинениях его. Княгиня говорит, что его обожает. Немец перебивает ее и спрашивает: «А позвольте узнать, милостивая государыня, вы девица или замужняя?» – «Замужняя». – «В таком случае, осмелюсь заметить, что замужняя женщина никого и ничего обожать не должна, за исключением мужа». Понятно, как подобная назидательная выходка позабавила все общество, начиная от самой княгини. Не лишним будет притом вспомнить, что княгиня лет пятнадцать и более жила уже врозь с мужем. Вопрос и нравоучение немца были тем смешнее.
Княгиня Г-на была в свое время замечательная и своеобразная личность в петербургском обществе. Она была очень красива, и в красоте ее выражалась своя особенность. Она долго пользовалась этим преимуществом. Не знаю, какова была она в первой своей молодости, но и вторая, и третья молодость ее пленяли какой-то свежестью и целомудрием девственности. Черные выразительные глаза, густые темные волосы, падающие на плечи извивистыми локонами, южный матовый колорит лица, улыбка добродушная и грациозная; придайте к тому голос, произношение необыкновенно мягкое и благозвучное – и вы составите себе приблизительное понятие о внешности ее. Вообще, красота ее отзывалась чем-то пластическим, напоминавшим древнее греческое изваяние. В ней ничто не обнаруживало обдуманной озабоченности, житейской женской изворотливости и суетливости. Напротив, в ней было что-то ясное, спокойное, скорее ленивое, бесстрастное.
По обеспеченному состоянию своему, по обоюдно-согласному разрыву брачных отношений, она была совершенно независима. Вследствие того устроила она жизнь свою, не очень справляясь с уставом светского благочиния, которому подчинил себя несколько чопорный и боязливый Петербург. Но эта независимость, это светское отщепенство держались в строгих границах чистейшей нравственности и существенного благоприличия. Никогда и малейшая тень подозрения, даже злословия, не отемняли чистой и светлой свободы ее. Может быть, старожилы, укоренившиеся на почве прежних порядков, и староверы осуждали некоторые странности этой жизни, освободившейся от крепостной зависимости; другие, может быть, исподтишка и смеялись над подобными эксцентричностями: общество назидательно обсуждает или себялюбиво предает осмеянию все, что осмеливается перешагнуть на сторону со столбовой дороги, которую проложило оно себе. Все это в порядке вещей. Все это могло выпасть, и вероятно, пало на долю княгини; но, повторим еще, доброе имя ее, и при этой общественной цензуре, осталось безупречно-неприкосновенным.
При всем этом, не могла же такая личность проходить бесследно и не пробуждать нежных сочувствий в том или другом сердце. Так и было. Она, на молодом веку своем, внушила несколько глубоких и продолжительных приверженностей, почти поклонений. До какой степени сердце ее, в чистоте своей, отвечало на эти жертвоприношения, и отвечало ли оно, или только благосклонно слушало, все это остается тайной. Да и во всяком случае, для светского любопытства мало приманчивости и пищи в разгадке романа платонического. Большая часть читателей не зачитывается романом, в котором с первых страниц не угадывается, что будет продолжение впредь. Этого обыкновенного и неминуемого впредь и ожидают нетерпеливые читатели, а услужливые романисты считают обязанностью не томить терпения продолжительным ожиданием.
В числе известных поклонников княгини назовем двух, особенно отличавшихся умственными и нравственными достоинствами. Один из них – М. Ф. Орлов, рыцарь любви и чести, который не был бы неуместным и лишним в той исторической поре, когда рыцарство почиталось призванием и уделом возвышенных натур. Другой – князь Михаил Петрович Долгоруков, одна из блестящих, но рано угасшая надежда царствования императора Александра I. Говорили, что в отношении к последнему со стороны княгини были попытки и домогательства освободить себя путем законного развода, но упрямый муж не соглашался на расторжение брака. Как бы то ни было, смерть доблестного князя Долгорукова неожиданно разорвала недописанные листы этого романа.
Дом ее, на Большой Миллионной, был артистически украшен кистью и резцом лучших из современных русских художников. Хозяйка сама хорошо гармонировала с такой обстановкой дома. Тут не было ничего из роскошных принадлежностей и прихотей своенравной и скороизменчивой моды. Во всем отражалось что-то изящное и строгое. По вечерам, немногочисленное, но избранное общество собиралось в этом салоне: хотелось бы сказать в этой храмине, тем более что и хозяйку можно было признать не обыкновенной светской барыней, а жрицей какого-то чистого и высокого служения. Вся постановка ее, вообще туалет ее, более живописный, нежели подчиненный современному образцу, все это придавало ей и кружку, у нее собиравшемуся, что-то не скажу таинственное, но и не обыденное, не завсегдашнее. Можно было бы думать, что тут собирались не просто гости, а и посвященные.