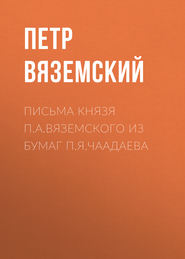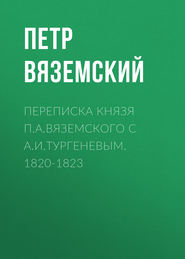По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Старая записная книжка. Часть 1
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
1825
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Выше сказали мы: собирались по вечерам. Найдется тут и поправка: можно было бы сказать – собирались medianoche, в полночь. Княгиню прозвали в Петербурге La Princesse Nocturne (княгиня ночная). Впрочем, собирались к ней не поздно, но долго засиживались. Княгиня не любила рано спать ложиться, и беседы длились обыкновенно до трех и четырех часов утра. Летом живала она на даче своей на Неве. Прозрачные и светлые невские ночи еще более благоприятствовали этим продолжительным всенощным. Даже свирепствовавшая холера не мешала этим сходкам верных избранных. Едва ли не одновременно похитила она двух-трех из них. Кажется, в числе их был и граф Ланжерон.
События 1812 г. живо расшевелили патриотическую струну княгини. Помнится, вскоре по окончании войны явилась она в Москве, на обыкновенный бал Благородного Собрания, в сарафане и кокошнике, оплетенном лаврами. Невозмутимо и с некоторой храбростью прохаживалась она по зале и посреди дам в обыкновенных бальных платьях; с недоумением, а может быть, и с насмешливым любопытством, смотрели они на эту возрожденную Марфу Посадницу. Во всяком случае эти барыни худо понимали, что это значит. Славянофильства и напряженных народолюбивых помышлений тогда и в помине не было: все довольствовались тем, что просто по-русски выпроводили незваных гостей из России и с почетом проводили их до Парижа. Каждому дню довлеет злоба его.
Была ли княгиня очень умна или нет? Знав ее довольно коротко, мы не без некоторого смущения задаем себе сей затруднительный и щекотливый вопрос. Но положительный ответ дать на него не беремся. Во-первых, по мнению нашему, ум такая неуловимая и улетучивающаяся составная часть, что измерить ее, взвесить и положительно определить невозможно.
Кажется, в Испании не говорят о человеке: он храбр, а говорят: он был храбр в такой-то день, в таком-то деле. Можно применить эту осторожность и к умным людям. Особенно женский ум не поддается положительной оценке. Ум женщины иногда тем и ограничивается, но тем и обольщает и господствует, что он отменно чуток на чужой ум. Женский ум часто гостеприимен; он охотно зазывает и приветствует умных гостей, заботливо и ловко устраивая их у себя; так, проницательная и опытная хозяйка дома не выдвигается вперед перед гостями, не перечит им, не спешит перебить у них дорогу, а напротив, как будто прячется, чтобы только им было и просторно, и вольно. Женщина, одаренная этим свойством, едва ли не перетягивает на свою сторону владычество женщины, наделенной способностями более резкими и властолюбивыми. Эта пассивность женского ума есть нередко увлекательная прелесть и сила.
Кажется (сколько можем судить по позднему знакомству), этой силой должна была в высшей степени обладать известная г-жа Рекамье. Блистательная, и в некотором отношении гениальная приятельница ее, г-жа Сталь, должна была уступать ей первенствующее место в состязании поклонников, которые толпились перед той и другой. Известен ответ Талейрана. Г-жа Сталь, в присутствии г-жи Рекамье, спросила его: «Если мы обе тонули бы, которую из нас бросились бы вы сперва спасать?» – «О, я уверен, – отвечал лукавый дипломат, – что вы отлично плавать умеете». Бенжамен Констант был в связи с г-жой Сталь, но до безумия влюблен был в г-жу Рекамье.
Сравнивать парижские салоны того времени с салоном Большой Миллионной было бы слишком смело; подводить под один знаменатель личности, которые встречались там, и те, которые могли встречаться у нас, было бы неловко. Ограничимся тем, что мы сказали, не принимая на себя ответственности решать вопрос ни в том, ни в другом отношении: ум вообще и женский ум в особенности остаются пока еще открытым вопросом.
Со своих чисто умозрительных и эстетических вершин княгиня сходила иногда на почву и прозаических общественных обсуждений. В доказательство тому упомянем о противокартофельном походе, который предприняла она против графа Киселева, когда новый министр государственных имуществ заботился об успешном разведении картофеля в сельских общинах. Ей казалось, что это нововведение есть посягательство на русскую национальность, что картофель испортит и желудки, и благочестивые нравы наших искони и богохранимых хлебо- и кашеедов. С упорством и страстью отстаивала она свой протест, которым довольно забавлялись в обществе.
Еще позднее и в последние годы жизни своей княгиня пустилась в высшую математику, соединенную с еще высшей метафизикой. Эти занятия признавала она каким-то наитием свыше. Она никогда к ним не готовилась и разрешала многотрудные задачи, так сказать, бессознательно и неведомо от себя. Таковы были собственные оценки трудов ее. Забывая свой прежний сарафан, переехала она на время в Париж, лучший и удобнейший город для подобных упражнений. Разумеется, русская княгиня, к тому же богатая, легко отыскала в ученой парижской братии усердных приверженцев и деятельных сотрудников. Она в это время издала на французском языке несколько брошюрок по этим темным и головоломным предметам. Но русская струя, но русский дух и тут были ей не совершенно чужды: при ней, в качестве секретаря или компаньонки (почему не сказать барской барышни?), находилась дочь Сергея Николаевича Глинки. Это был род русской ладанки от окончательного вражьего, иноземного соблазна.
Не знаю, продолжала ли княгиня, по возвращении своем в Петербург, заниматься опытами умозрительного сновидения своего, но мне жаль, что расстаюсь с ней на этом повороте жизни ее. В прежних видах и обстановках было более поэзии, самобытности и правды. Quand le diable devint vieux, il se fit ermite, говорит французская поговорка. (Когда черт стареет, то делается отшельником.) Напрасно! Бесу лучше оставаться бесом до конца, а женщине женщиной, даже когда уже нет молодости. Метафизика для нее удушливое убежище. Хуже ее разве одна политика. Кажется, когда настает для женщины пора линяния и отрезвления, и нужно ей как-нибудь порешить с собой, то лучше уже откровенно и с самоотвержением приняться ей за нюхание табаку: табакерка в руках женщины есть знамение отречения от владычества своего и вместе с тем от сатаны и всех дел его.
Впрочем, все это не касается до нашей княгини. При всей женственности, которой была она проникнута, она, кажется, по натуре ли своей или по обету, никогда не прибегала к обольстительным приемам, в которые невольно вовлекается женщина, одаренная внешними и внутренними приманками. Одним словом, нельзя представить себе, чтобы княгиня, когда бы и в каких обстоятельствах то ни было, могла, если смеем сказать, промышлять обыкновенными уловками прирожденного более или менее каждой женщине так называемого кокетства.
Со всем тем и Пушкин, в медовые месяцы вступления своего в свет, был маленько приворожен ею. Надолго ли, неизвестно, но во всяком случае (не) неправдоподобно. В сочинениях его встречаются стихи, на имя ее написанные, если не страстные, то довольно воодушевленные. Правда, в тех же сочинениях есть и оборотная сторона медали. Едва ли не к княгине относится следующая заметка, по поводу появления в свете первых восьми томов Истории Государства Российского: «Одна дама, впрочем, весьма почтенная (в первоначальном тексте сказано милая), при мне, открыв 2-ю часть (Истории), прочла вслух: Владимир усыновил Святополка, однако не любил его… «Однако! Зачем не но? Однако! Как это глупо! Чувствуете ли вы всю ничтожность вашего Карамзина?»
Как ни странна эта критика, но я ею радуюсь. Во-первых, доказывает она, что и в высшем обществе, осужденном за безграмотность многими не высшими судьями нашими, всякая замечательная, хотя бы и русская, книга не ускользает от внимания даже и великосветских барынь. Далее, радует меня сродство критики княгини с критикой многих наших журнальных борзописцев. Замечание княгини так бы и улеглось в любом русском журнале. Следовательно, нет этого вопиющего разрыва между литературой нашей и нашим обществом – разрыва, о котором у нас сетуют и против которого так негодуют.
Между тем нелишним допустить здесь предположение, что княгиня находилась тогда под влиянием всеславянского генерала Костенецкого, усердного посетителя и отчасти оракула этого капища. Впрочем, другой приверженец княгини, умный и образованный Михаил Орлов, был также недоволен трудом Карамзина: патриотизм его оскорблялся и страдал ввиду прозаического и мещанского происхождения русского народа, которое выводил историк.
Вот еще заметка Пушкина: «Он (т. е. Орлов) пенял Карамзину, зачем в начале Истории не поместил он какой-нибудь блестящей гипотезы о происхождении славян, то есть требовал романа в Истории».
Не дожил Орлов до исполнения патриотических требований и прихотей своих. Позднее возникла школа гипотез, более или менее блестящих: выбирай любую. Семь греческих городов спорили о месторождении слепого Омира; наберется, вероятно, столько же изыскателей колыбели русского народа. До окончательного решения спора приходится тысячелетнему младенцу быть без глазу у семи нянек или кормилиц своих.
Но скажем с поэтом:
И всё то благо, все добро!
Может быть, иному скептику и позитивисту покажется довольно суетной и празднословной та упорная тяжба о происхождении нашем – тяжба, за многими и многими столетними давностями следующая на покой в архив. Но если, например, кому-нибудь захотелось бы досконально исследовать, какого цвета волос была кормилица его, давным-давно умершая, была ли она белокурая, рыжая или скорее шандре, как говорит городничиха в «Ревизоре», то почему не предоставить ему волю тешиться над этой невинной и никому не мешающей задачей? Нет сомнения, что каждому соблазнительна и лестна попытка доказать, что столетия и ученые авторитеты ошибались и врали чепуху, а что он один нашел слово истины. Во всяком случае, может быть дело и не совсем бесполезное. Истина историческая, как и многие другие истины, не рождается в наше время в полном облачении, как родилась мудрость из больной головы Юпитера. Ныне истина добывается не так легко: она часто многотрудная переработка, переплавка очищенных заблуждений, устаревших ошибок, предубеждений, суеверных предрассудков.
А чтобы кончить с сим вопросом, позволим себе еще одно замечание: большой прибыли нам не будем, ежели даже откроются новые источники, новые достоверные и неопровержимые справки – чего теперь нет, – по коим докажется как дважды два четыре, что Нестор ошибался, или худо был понят, что ошибались и Шлёцер, и Карамзин. Мы теперь живем не младенческой жизнью, а жизнью уже взрослой и закаленной на огне событий. Как бы то ни было, мы столетиями и подвигами завоевали право называться русскими. И это право давно признано Европой, не безызвестно и Азии. Что же касается до утверждения отечественного прозвища нашего по восходящей линии вплоть до безымянных и баснословных праотцев наших, то в этом нет насущной и неотлагаемой потребности. Признаюсь, по мне, тут кстати сказать: кто ни поп, тот и батька; или кто ни батька, тот и поп. Был бы только приход цел и богохраним: вот это главное.
Незаметным для себя образом и увлекаясь течением мыслей наших, мы немного, и даже много, удалились от задачи, первоначально себе поставленной. Мы хотели вставить в определенную раму уголок из нашей общественной жизни и олицетворить его изображением личности, которая в свое время занимала не последнее место на сцене общежития нашего. Оказывается, что мы в очерке своем значительно перешли объем этой рамы. В извинение себе за подобное своеволие, мы прикрываем археографическое отступление свое (пожалуй, настоящий hors d'oeuvre, т. е. закуску) знаменитым сарафаном княгини на бале московского дворянского собрания. Под этим нарядом и знамением она без большого труда может вместиться в раздвижную раму нашу. Более того: мы даже уверены, что любезная тень ее не посетует на нас за то, что мы помянули о ней добрым словом в такой неженской и полемической обстановке.
Приписка. Когда в памяти нашей пробуждаются очерки личностей, с которыми мы, на веку своем, встречались, живали и бывали в отношениях более или менее близких, мы всегда чувствуем желание, более того, потребность, уловить эти мелькающие призраки, эти в нас еще живые предания минувшего: мы хотим прикрепить их к бумаге. Успеваем ли в попытках своих, этот вопрос решить не нам. Но нам сдается, что на нас как будто лежит обязанность быть одним из хранителей (кустодов) дел давно минувших лет и преданий старины глубокой, но еще свежей и не онемевшей в воспоминаниях наших.
За неимением кисти Ван-Дейка, мы вырезаем на скорую руку силуэтки, которые со временем могут и пригодиться. Успел же знаменитый естествоиспытатель Кювье, наблюдениями своими, воссоздать по мелким обломкам остовов целые поколения существ, уже с незапамятного времени сошедших с лица земли, и распределить их в методическом и стройном порядке. Почему не надеяться, что и будущий русский Кювье-романист, или историк нашего общежития, не проследует, по разбросанным очеркам нашим, ход, правдивые положения и обстановку русского общества в период, который мы беглым взглядом окидываем?
На будущее всегда позволительно уповать; но, вместе с тем, в настоящем зарождается в нас грустное чувство и сетование, что романисты наши, драматурги, так называемые нравоиспытательные публицисты наши, вообще столь мало знакомы с достоверными и, так сказать, олицетворенными преданиями русского общества. Вследствие невольного неведения (не хотим и думать о вольном и предумышленном) они бессознательно и неправдиво изображают это общество с самых неблаговидных сторон: они размалевывают картину свою резкими, неприятными и к тому же фантастическими красками. Одним словом, они клеплят на общество наше, чтобы не сказать: клевещут. Под их очерками оказывается, будто наше общество (разумеется, и с их стороны и с нашей речь о высшем обществе) было, если не есть и поныне, до крайности бесцветно, тщедушно, худосочно, малокровно. Если верить им, мышцы его дряблы: в нем нет ни твердости воли, ни способности действия. Существа, образующие это общество, не люди, а какие-то раскрашенные и нарядные куклы. Едва ли оно так.
Не спорим, что можно подсмотреть в нем многие недостатки: например, недостаток зрелой серьезности, упирающейся на почву, возделанную и обработанную постоянными и долговременными трудами. Просвещение наше, образованность наша, то есть цивилизация, в некоторых отношениях, несколько поверхностны: они не вошли в нашу кровь и в нашу плоть, а более в привычки наши. Но спасибо и за это. Мы довольствуемся энциклопедическими сведениями; в нас мало специальности, потому что в нас нет долготерпения. С удивительным чутьем, с тонким и возвышенным сочувствием, с быстротой и ловкостью мы много хорошего и прекрасного улавливаем налету, а мало что добываем в поте лица, труда и науки. Но едва ли все эти недостатки не окажутся, при ближайшем исследовании, первородными грехами нашими, то есть свойствами и условиями Истории нашей.
«И мимоидый, виде человека слепа от рождества, и вопросиша его ученицы его, глаголюще: Равви, кто согреши, сей ли, или родители его, яко слеп родился. Отвеща Иисус: Ни сей согреши, ни родители его, но да явятся дела Божии на нем».
История народа есть истинно глас Божий над ним.
Так или сяк, куда и откуда не пересаживай генеалогическое дерево наше, но все же мы славяне, славянами родившиеся, или в славян переродившиеся. Как ни увертывайся, а есть в нас доля благородной, добродушной и милой беззатейливости, прирожденной славянской натуре. Гром не грянет, мужик (русский человек) не перекрестится. Эту поговорку выдумали не мы, и не грамотеи, а мы подслушали ее опять-таки из уст самой истории. Нам не тягаться с доками-германцами. Пожалуй, мы иногда и перегоним их, но все же не догоним.
Не должно также терять из виду еще одно историческое обстоятельство. Провидение в одно прекрасное утро послало нам на должность воеводы, дядьки и учителя – богатыря, который был маленько горяч и скор и крепок на руку. Почву свою он не обсеменял в ожидании будущих благ. Он ждать не любил и не умел. Желуди были не по нем: давай ему сейчас дубняк. Вот он и стал целиком и живьем пересаживать его на обширных пространствах своей возлюбленной вотчины. И мы все, большие и малые, особенно большие, и старые, и молодые, вольные и невольные, возросли и обжились под этим импровизированным дубняком.
Кажется, князь Цицианов, известный поэзией рассказов, говорил, что в деревне его одна крестьянка разрешилась от долгого бремени семилетним мальчиком, и первое слово его, в час рождения, было: дай мне водки! Может быть, и мы начали пропитание свое не с молока матери, а прямо с водки.
Как бы то ни было, но если упрекать высшее общество наше в недостатке, скажем опять, серьезности (за неимением другого слова под пером), усидчивости, духовной возмужалости, то в каких других общественных слоях наших найдем мы живые и поразительные улики в свойствах и качествах, которые могли бы пристыдить это высшее общество в легкомыслии его, недозрелости и в умственной и нравственной несостоятельности? Скажем беспристрастно и по совести, что все эти нарекания и междоусобные неприязненные притязания, оглашаемые некоторой частью печати нашей, неосновательны, несправедливы и неблаговидны. Высшее общество наше имеет в таком случае полное право сказать нашей печати: не вам бы говорить, не мне бы слушать.
* * *
Когда К. Я. Булгаков был переведен из директоров Московского почтамта в Петербург на таковую-то должность, на место его назначен был Рушковский, с незапамятных времен служивший по Московскому почтовому ведомству.
Никто никогда не знал ни происхождения, ни родства его. Он точно родился на почте: почта была мать его, семейство, родина. Известная жизнь его начиналась с почты и почтой кончилась она. Он был какой-то почтовый самородок. По некоторым слухам, приметам и по выговору его, можно было приписать его к белорусам, с отпечатком иезуитского образования. Он был большой оригинал, умный, со сведениями и, по крайней мере, по-видимому, простосердечный, скромный, даже когда судьба возвела его на почт-директорское место, место везде и всегда значительное, а в Москве, небогатой представительными должностями, и подавно. Всегда оживленный, веселый, гостеприимный дом К. Я. Булгакова претворялся со дня на день в дом пустынный, отшельнический, в келью.
В первый раз, что я навестил Рушковского в новом жительстве его, он вышел ко мне навстречу с подсвечником, в котором тускло горела сальная свеча. Я тогда отправлялся в Петербург и шутя спросил его, не даст ли он мне писем, чтобы избавиться от любопытства и нескромности почты. Надобно было видеть, с каким странным и словно испуганным выражением в лице принял он предложение мое. «Нет, – сказал он, – благодарю, но и вам не советую писать никогда с отъезжающими: это ненадежнее, а часто и опаснее, нежели писать прямо по почте».
Булгаков очень любил и уважал его. Вероятно, он и указал начальству на него, как на преемника себе; преемника, но вовсе не наследника. При Булгаковых, т. е. при Константине Яковлевиче, а после кончины Рушковского, при Александре Яковлевиче, почтамт отличался любезной угодливостью всем невинным ходатайствам московских барынь, особенно молоденьких и пригоженьких, по части писем и вообще почтовых сношений и удобств. С Рушковским ничего этого не было. Почтамт сделался заповедным монастырем и недоступной крепостью: с ним существовали одни официальные сношения.
В Москве Рушковского никто не знал, он был нелюдим и не общителен. Кажется, и милый наш всеобщий корреспондент и общий почтовый приживалка, Тургенев, не бывал в переписке с ним: эта черта обрисовывает Рушковского.
Во время бытности императора Александра в Москве Рушковский представлялся ему в кабинете его. Государь, отпуская его, когда он приблизился к дверям, сказал ему: Il е a la une marche, prenez garde de tomber. (Тут ступенька; смотрите, не упадите.) Еще не договорены были слова Государя, а Рушковский задел за ступеньку и повалился. Падая, говорит он: C'est deja fait, votre majeste. (Я уже упал, ваше величество.)
* * *
А вот и другой почтовый анекдот довольно исторический и характеристический.
И. Б. Пестель, в звании петербургского почт-директора и президента главного почтового правления при императоре Павле, пользовался особенным благоволением его и доверенностью. Граф Растопчин, род первого министра в то время, был недоволен этим. Не любил ли он Пестеля, имел ли причину не любить, забывался ли перед ним Пестель при счастии своем и, может быть, в ожидании и надежде на счастье еще более возвышенное, опасался ли его Растопчин как соперника, который рано или поздно может победить его, или просто не доверял он искренности, преданности его к Государю? Все это остается не разъясненной тайной. Но вот какую западню устроил Растопчин против Пестеля.
Он написал письмо от неизвестного, который уведомляет приятеля своего за границей о заговоре против императора и входит в разные подробности по этому предмету; в заключение говорил он: «Не удивляйтесь, что пишу вам по почте; наш почт-директор Пестель с нами». Растопчин приказал отдать письмо на почту, но так (неизвестно, каким способом), что письмо должно было непременно возбудить внимание почтового начальства и быть передано главноуправляющему для перлюстрации.
Граф Растопчин хорошо знал характер императора Павла, но хорошо знал его и Пестель. Он не решился показать письмо Императору, который, по мнительности и вспыльчивости своей, не дал бы себе времени порядочно исследовать достоверность этого письма, а тут же уволил бы его, или сослал. Граф Растопчин также все это сообразил, и с большой надеждой на удачу. Несколько дней спустя, видя, что Пестель утаивает письмо, доложил он Государю о ходе всего дела, объясняя, разумеется, что единственным побуждением его было испытать верность Пестеля, и что во всяком случае повергает он повинную голову свою перед его величеством. Государь поблагодарил его за прозорливое усердие к нему. Участь Пестеля решена: прекращены дальнейшие успехи его, по крайней мере, на все настоящее царствование; он уволен от занимаемого им места.
Но этим не довольствуется торжество Растопчина. Он был ума насмешливого, и ему захотелось еще пошутить над жертвой своей, так сказать, подурачить ее. До сообщения Пестелю именного повеления он приглашает его к себе на обед. Тот, обольщенный успехами своими, является к обеду в попытках и с некоторой самоуверенностью. Хозяин расточается перед гостем своим в особенных вежливостях и ласках. Пестель при этом думает, что Растопчин начинает опасаться его и хочет задобрить. Он проговаривается и двусмысленными словами указывает на виды свои в будущем. Возвратившись домой от обеда, находит он официальную бумагу, вовсе не согласную с розовыми мечтами честолюбия его. (Слышано от Карамзина.)
Вот какие разыгрываются водевили, а иногда и драмы на скользкой сцене честолюбивых замыслов и столкновений. Граф Растопчин был человек страстный, самовластный. При всей образованности своей, которая должна бы укрощать своевольные порывы, он часто бывал необуздан в увлечениях и действиях своих. Но он не был зол, хотя, может быть, был несколько злопамятен. Дружба его с доблестным князем Цициановым, уважение к Суворову, позднее постоянно приятельские сношения с Карамзиным, благоговейная признательность к памяти императора Павла, благодетеля своего, а во время служения при нем искренность, в изложении мнений своих, искренность, доходившая иногда до неустрашимости и гражданского геройства, все это доказывает, что он способен был питать в себе благородные и возвышенные чувства.
* * *
И. Б. Пестель – одно из воспоминаний детства моего. Он часто бывал в доме нашем в Москве. Мой отец, довольно строгий и исключительный в приязнях своих, был, сколько мне известно, дружески расположен к нему. Эти приятельские отношения сохранились до кончины отца моего. Когда привез он меня в Петербург для помещения в пансион, он часто виделся с Пестелем. До поступления моего в училище я также часто видался с сыновьями его, почти одного возраста со мною. Вероятно, товарищем в играх моих был и несчастный, столь горестно кончивший свое политическое и земное поприще.
Жена Пестеля, как узнал я из семейных преданий, была очень умная и любезная женщина. Мои родители очень любили и уважали ее; а сколько мне известно, моя мать была также довольно разборчива в связях своих. С нею ездили к нам мать ее, Крок, с ее дочерью незамужней. Салон отца моего был салоном разговора: следовательно, посещавшие его должны были вносить, кто более, кто менее, свою долю ума и любезности. В маленькой комнатной библиотеке отца моего, в одном шкафу с книгами, за стеклами хранился маленький, очень маленький, белой шелковой материи, башмачок. После узнал я, что этот сандрильоновский башмачок обувал маленькую ножку г-жи Пестель. Honne soit qui mal е pense. (Пусть будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает, – девиз Подвязки.)
* * *
Князь Белосельский (отец милой и образованной княгини Зинаиды Волконской) был, как известно, любезный и просвещенный вельможа, но бедовый поэт. Его поэтические вольности (licences poetiques) были безграничны до невозможности.
Однажды в Москве написал он оперетку, кажется, под заглавием Олинька. Ее давали на домашнем и крепостном театре Алексея Афанасьевича Столыпина. Не придворная, а просто дворовая труппа его, отличалась некоторыми художественными актерами, которые после заняли почетные места в императорском Московском театре. Помню между прочими одного из них, Лисицына: он был очень забавен в комических ролях простачков и долго смешил московскую публику. Оперетка князя Белосельского была приправлена пряностями одного соблазнительного свойства. Хозяин дома, в своем нелитературном простосердечии, а может быть, и вследствие общего вкуса стариков к крупным шуткам, которые кажутся им тем более забавны, что они не очень целомудренны, созвал московскую публику к представлению оперы князя Белосельского. Сначала все было чинно и шло благополучно.