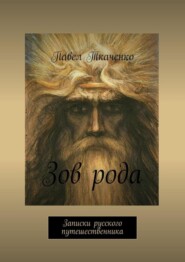По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Чаро-Токкинский край. Повесть
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Караван из упряжек (по два оленя в каждой) растянулся по долине реки Токко, сжатой залесёнными склонами, почти на сотню метров. На нартах поверх тяжёлых ящиков с продуктами возвышались более лёгкие спальники, палатки и баулы с личными вещами. Передней упряжкой с самыми сильными оленями управлял Макитов, прокладывая колею для следующего за ним каравана. Он то присаживался на нарты, то соскакивал с них, на бегу командуя упряжкой, отводя её от препятствий и стараясь не допускать остановок, чтобы олени лишний раз не надрывались в глубоком снегу, сдвигая тяжело нагруженные нарты. В середине каравана высовывалась из мехового чехла голова самого маленького участника экспедиции, за которым зорко следила со следующей упряжки монументально невозмутимая мать, а замыкал караван младший помощник каюра. Собаки бежали сзади по свежей колее, либо когда караван выезжал на припорошённый речной лёд, забегали вперёд.
Ну а четверо полевиков с лёгкими рюкзаками за спиной, в которых лежало измерительное снаряжение и запас еды на день, шли отдельной от каравана группой. Каждые четверть часа идущий впереди делал шаг в сторону, пропускал следом идущих коллег, становясь замыкающим, и вместо трудоёмкого «пропахивания» снежного пухляка без усилий скользил по проложенному следу. Такой способ сохранял скорость передвижения отряда. Время от времени они разделялись по двое для обследования распадков и притоков. Если обнаруживался талик (незамерзающий участок русла), то после его расчистки измерялась скорость течения, глубина и ширина потока, отбиралась проба воды, но чаще неглубокие ручьи были либо сухими, либо скрыты под толстым слоем наледи. Но это тоже отмечалось в полевых книжках, и на картах.
Талик
Очень быстро новизна первых дней полевого сезона перетекла в будни. День начинался в утренние сумерки с разжигания походной печки. Занимался этим обычно тот, кого мороз сквозь спальник, опускавшийся к утру ниже двадцати градусов, пронимал сильней. И когда воздух в палатке прогревался, а пар при дыхании становился невидимым, выползали из спальников остальные. Потом после завтрака и сеанса связи с базой, сворачивание лагеря и, перед самым выходом в путь, намётка следующей стоянки; днём – километры снежной целины и речных торосов, измерение больших и малых водотоков с отбором проб; в полдень короткая передышка: «война войной, а обед по расписанию»; ну и под вечер расчистка снега под палатку, распаковка нарт, заготовка дров, ужин и другие хлопоты.
Сказывалась смена образа жизни, и усталость в первые дни сразу после неприхотливого ужина рядом с жаркой печкой быстро склоняла полевиков «на боковую». Однако сон выходил прерывистым, поскольку морозные ночи Якутии в марте мало отличаются от ночей февраля. Дрова в жестяной печке прогорали, сквозь брезент палатки и слой подстилающего лапника в спальники вползал холод, вынуждающий кого-то из гидрогеологов заново её растапливать, и «нырять» потом в быстро остывшую постель.
Вообще, взгляд изнутри события сильно отличается от взгляда со стороны. Первозданные таёжные просторы, например, при обзоре с высокой горы восхищают величавостью и великолепием, а при передвижении по земле вдруг оказывается, что в этих красивых просторах полно препятствий, неудобств, вызывающих иногда даже раздражение, которое быстро исчезает, как только путь окончен и выбрано место для стоянки. Это свойство человеческой психики по-разному реагировать на одно и то же в чём-то идентично волне, летящей по морским просторам, с шумом разбивающейся о береговые утёсы и успокаивающейся в закрытой бухте. Эта череда взглядов, когда буреломы, холод и снежные наносы, перемежается с короткими остановками на новом месте у небольшого костра, где всё незнакомо и потому интересно, называется романтикой, о которой особенно часто грезят молодые души.
В походных хлопотах быстро пролетел остаток марта. Кажущееся однообразие ежедневно нарушалось чем-нибудь новым: то незамёрзшие наледи в распадках с налипающим на лыжи мокрым снегом, то речные полыньи, прикрытые тонким льдом, требующие обхода, то глубокий снег, выматывающий оленей… Очень впечатлил изыскателей левобережный приток Токко – Чуостах: несколько километров широкой поймы, залитой сплошной наледью, переливающейся на солнце яркими бликами и растущими изо льда деревьями на её окраинах.
Наледь на Чуостахе в июле
Но главные заботы в маршруте всё же таились не в прошедших днях, а в грядстоящих. Там за горизонтом, находилось то, что влекло и манило своей загадочностью…
При подъёме к водораздельному озеру Усу – самого крупного на площади изыскания, объём которого нужно было отразить в будущем отчёте, караван застрял в полутораметровых сугробах. И всего-то поднялись от реки на четыреста метров, а высота снежного покрова удвоилась. Тяжело вздымая бока и утопая по брюхо в снегу, олени передней упряжки пугливо озирались на каюра заиндевелыми на морозе мордами, а тот очень чувственно и громко пытался заставить их двигаться дальше. Они дёргались, немного сдвигали нагруженные нарты, но после нескольких попыток снова замирали. За этим безрезультатным занятием и застали его в полдень подоспевшие изыскатели. Посмотрев на тщетные попытки измождённых животных протащить тяжёлые нарты, Славич предложил возбуждённому каюру:
– Передохни, Палыч, пожалей олешек.
– А как тогда к озеру добраться?
– До него осталось километра два, так что выдели пару нарт, мы и сами дотянем. Так ведь парни? – обратился он к коллегам.
– Дотянем. Возьмём с собой снаряжение, харчей дней на пять да спальники. При облёте мы видели там несколько зимовий, так что поживём эти дни с удобством, – подтвердил Алёхин.
Озабоченное лицо каюра сразу посветлело.
– Там раньше по ручьям золото искали, от них, наверно, осталось… Оленям там ночевать всё равно нельзя, до корма не добраться. Я спущусь с ними во впадину, в ней снега меньше, пусть там копытят мох, отъедаются. Потом налегке приеду, заберу ваши вещи.
Они вместе «поколдовали» над картой, наметили следующую стоянку так, чтобы обозначенные маршрутные точки были досягаемы без переездов и олени отдохнули от ежедневного перетаскивания гружёных нарт. Договорились о дне будущей встречи, а затем каюр перераспределил груз с двух нарт, пронаблюдал, как изыскатели увязали необходимое снаряжение и, впрягшись в лямки, потянули поклажу. Первая людская упряжка вязла в искрящемся на солнце снеге, лыжники сильно напрягались, наклоняясь к земле, тяжело дышали, но упрямо тянули воз, подтверждая народную поговорку: «взялся за гуж – не говори, что не дюж». Зато вторая пара гужевых «тягачей» по проложенной колее тянула нарты запросто.
– Складно получается, лучше, чем у оленей! – подбодрил каюр вдогонку, не скрывая радости оттого, что возникшая неувязка устранена.
– Это в нас опыт волжских бурлаков проснулся, да и ноша своя не тянет, – отозвался на похвалу Горцев из второй упряжки…
Оленьи нарты легче любых саней. Прочные, ничего лишнего, нет ни единого гвоздя – только сухое дерево, связанное сыромятиной и распорками; полозья высокие, слегка расходящиеся книзу, обеспечивающие устойчивость и скольжение по высокому снегу с солидным грузом…
Гидрогеологи вместо оленей на пути к озеру Усу
После окончания подъёма тащить нарты стало легче, «бурлаки» распрямились, расширился кругозор, и они увидели вдруг в редколесье хозяина самой красивой в мире шубки – соболя, замершего от созерцания необычной процессии. Правда, любопытство его при первом же человеческом возгласе исчезло, зверёк пустился наутёк, а люди, наблюдая за его быстрыми волнообразными скачками, приостановились, и Алёхин уверенным голосом прокомментировал:
– Мех-то выходной ещё, на первую категорию тянет… красивая вышла бы шапка.
– Несчастный зверёк, все норовят содрать с него шкурку, – посочувствовал зверьку Сергеев.
– Однако из-за неё русские промысловики дошли до Тихого океана, и даже впопыхах заскочили на Аляску, – поделился Славич. – Соболья шкурка сделала страну нашу самой большой в мире.
– Шкурные интересы – двигатель прогресса! – щурясь от слепящего на солнце снега и надевая солнцезащитные очки, изрёк Сергеев. – Нам сейчас лучше позаботиться о глазах, а то нахватаемся снежных «зайчиков», и не только соболя, друг друга перестанем узнавать.
– Неплохо бы после оленьей работы баню истопить, смыть взопрелость да постираться, – пожелал Алёхин. – Ладно, впряглись, лясы точить будем потом, – потянул он привязанную к нартам лямку…
Одна из трёх избушек с четырьмя дощаными нарами, с печкой из двухсотлитровой бочки, с большим столом посередине, длинными полками вдоль бревенчатых стен и множеством гвоздей, торчащих в печном углу, и даже с застеклёнными окнами, – после ночёвок в палатке выглядела царской палатой.
– Будто специально для нас построили, – обрадовался Горцев. – Судя по сохранности избы, работали здесь не более двух лет назад. Чур, моя лежанка возле печки.
– Будь по-твоему, но раз сам напросился, то тебе и начальствовать над ней, – согласился Сергеев.
– Тогда как начальник печки, даю устное распоряжение: всем на заготовку дров, брать только стоячие сушины…
После короткой передышки, распределив между собой обязанности, четверо полевиков весь оставшийся день занимались благоустройством и разметкой створов на озере. Вдобавок к удобному приюту, на береговой излучине озера, обособленно от избушек, обнаружилась небольшая баня, пригодная для мытья и стирки после устранения мелких повреждений.
За три следующих дня они насверлили в метровом льде около сотни лунок, промерили глубины и отмаршрутили верховья речек, расположенных по соседству с озером. А на четвёртый день наловили в озере гольцов и хариусов, натопили баню, и после банно-прачечных процедур, разомлев от наваристой ухи и горячего чая, рассуждали о продолжении маршрута. Чистые тела, постиранное бельё, тусклое пламя свечи да красная от жарких дров печь в натопленной избушке – о другом уюте среди промороженной и заваленной снегом тайги даже не думается.
– Коллеги, жалко покидать сей курорт, может, задержимся на денёк, когда ещё удастся в этакой первозданной глухомани отдохнуть, – пошутил Горцев.
– Да, хорошо вставать в полдесятого, свесив ноги с лежанки, – мечтательно отозвался Сергеев.
– Вот, сразу видно, – лодыри, – засмеялся Алёхин. – Не такая уж тут и глухомань, за Удоканом скоро паровозы загудят, избушки на берег озера тоже не с неба свалились. Да и по верховьям зимовья, шурфы… мы со Славентием заглянули в один, так даже дна не разглядели. Здесь явно была разведка на золото, и лет этак через -надцать от глухомани останутся одни воспоминания.
– Ну и что, мы же гидрики, тундра, – в тон ему возразил Горцев, – запасы воды в озере до нас никто не подсчитывал.
– Вода – минерал вездесущий, так что где бы мы ни были он рядом, и вообще, когда мы крутим буром дырки во льду – мы буровики. Если посчитать, то метров сто с гаком льда просверлили. Нас теперь можно использовать вместо буровой вышки.
– А когда мы ловим хариусов – рыбаки, топим баню – кочегары, а ещё повара… в общем, во все дырки затычки.
– Поздно, коллеги, наш путь и далёк, и долог, – напомнил Сергеев строчку из знаменитой геологической песни. – Завтра Макитов приедет за спальниками, а отдыхать на голых досках совсем не курорт, – заметил он, разворачивая карту. – Давайте решим, как дальше двигаться. Хорошо бы не делать крюк по следам каравана, а напрямик спуститься во впадину. Но судя по изолиниям, там крутой склон с редколесьем, и спуск на охотничьих лыжах сомнителен.
– Дай-ка, – попросил Алёхин карту. Приблизив её к пламени свечи, он внимательно осмотрел участок и уверенно произнёс: – С таяком можно скатиться и по более густым изолиниям, лишь бы обрывов не было. – И увидев вопросительные взгляды, пояснил: – Это прочный шест, тормоз. Чем круче склон, тем сильнее на таяк налегаешь, гася разгон. Если спускаться вразброд, по целику, то риска нет, особенно ежели наискосок.
– Петруха, я за! И вообще, коллеги, когда мы за сотни километров от цивилизации определяем, как нам поступать – это воля вольная. Да ещё нам олений караван харч везёт; в общем, везёт нам! – скаламбурил Славич.
– Сплюнь, а то спугнёшь, воля, неволя, свобода, каторга – это сёстры-близнецы.
– Тьфу, три раза, но мы в маршруте по своей воле, а каторга – это когда по принуждению.
– Я имел в виду случаи, в которых по этой воле попадаешь в тупик и выкладываешься из последних сил, как на каторге, – уточнил Алёхин. – В такие моменты о свободной жизни не вспоминается. Да и желудок привязан к харчам, каждый день не даёт забыть, что свобода – это иллюзия. Мысли о воле появляются после того, когда тело насытится.
– Это ты точно подметил, – вставил реплику Горцев, – когда хочется жрать – свобода на втором плане.
– Так это про тело, а не про душу… хотя вы правы, плоть требовательна. – Славич сделал паузу. – Это для плоти существует понятие свободы или каторги, а душе необходима воля. Душа повинуется совести, а плоть – закону. Хорошо живётся, когда закон и совесть не противоречат друг другу.
Горцев усмехнулся:
– Ты, часом, на юриста не обучался?
– Примерно года два назад я читал, – не обратив внимания на иронию, продолжил Славич, – что на санскрите – языке более всего близкого к русскому – «сва» означает небеса, то есть «сва-бо-да» – это аббревиатура и дословно означает «небеса, богами данные», выражаясь по-научному – согласие с непознанным метафизическим миром.