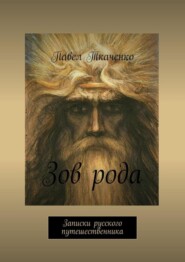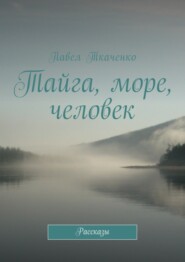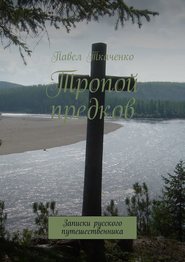По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Чаро-Токкинский край. Повесть
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Окрестности посёлка Торго
– Что, там, на вершинах, деревья уже не растут?
– Там под снегом заросли кедрового стланика. А ещё там железная руда, разведку которой ведёт экспедиция, а чуть в стороне есть гора Мурун с единственным в мире месторождением чароита.
– Чароит – красиво звучит. Наверно, первооткрыватели были очарованы минералом, раз такое название дали?
Чароит
– Вряд ли. Месторождение располагается в бассейне реки Чары, от неё и название, как и название нашей экспедиции от междуречья рек Чары и Токко – Чаро-Токкинская. Но если учесть, что ранее здесь, кроме эвенков других народов не проживало, то в переводе с эвенкийского «чар» – это домашний или ездовой олень, а «токи» – лось или сохатый, а значит, и название экспедиции по-русски звучало бы как Олене-Лосёвая или Олене-Сохатая… И минерал назывался бы оленит. Если его обработать и отполировать, переливается он фиолетово-перламутровым разнообразием, и хоть до драгоценности не дотягивает, бывают ювелирные образцы, от которых глаз не оторвать.
– А как рудное месторождение назвали?
– Их здесь три, и все называются по близлежащим речушкам. И название посёлка, в который мы прилетели, тоже от речки Торго, а не потому, что здесь торгуют.
– С воздуха посёлок вроде раскидистый, а дымов над ним почти нет. Днём не топят печки, что ли? Да и домов сейчас что-то не видно, – полюбопытствовал Славич.
– Вон за теми ёлками, как только речку перейдём, увидишь, – кивком показал попутчик вдоль дороги. – А не топят потому, что к домам от котельных теплотрассы подведены. Тут всё построено по-людски: школа, детсад, столовая, спортплощадка, электричество от дизельной станции круглосуточное, телевышка…
Торгинская улица Пионеров
Раньше было здесь и здание аэропортовское, так сгорело. Сейчас кому надо на рейс, к прилёту подъезжают.
– Что-то не похоже.
– Когда минус за сорок давит, люди подтягиваются к самому отлёту, чтоб лишку не мёрзнуть… да вон, едут уже.
Из-за елей выехал вахтовый ЗИЛ с будкой, из-под его колёс вздымались лёгкие клубы снежной пыли, слышен был скрип резиновых покрышек на промороженной дороге. А через минуту волна морозного воздуха от промчавшейся вахтовки ударила в лицо, защипало нос и уши. На какое-то мгновенье она словно сдула со Славича благостные впечатления. Но только лишь на мгновенье.
Когда проходили они по мосту через замёрзшую речку, навстречу им, чередуя быстрые шаги с перебежками, приблизился молодой мужчина в белом полушубке и меховых сапогах. Поравнявшись и, узнав Сергеева, он удивлённо воскликнул и распахнул руки для объятий:
– Привет, Серёга! Вот так встреча! А я думал, что ты навсегда укатил.
– Привет, Митяй! Я и сам так думал, да вот, позвали на съёмку и, как видишь, вернулся. Рад тебя видеть, – ответил тот после дружеских объятий.
– Слышал я про новый проект. Под гидрогеологическую съёмку даже отдельный штат утвердили, а в камералке для инженерно-технического состава уже и помещение выделено, там уже обживаются твои коллеги… Ладно, спешу на самолёт, через месяц опять приеду в командировку, ещё не раз увидимся, – и Митяй снова поспешил в сторону взлётной полосы.
Как только попутчики двинулись дальше, Сергеев пояснил:
– Это сотрудник института мерзлотоведения, мы с ним на Горкитском месторождении познакомились, он периодически приезжает промерять температуру породы на разных глубинах в отработанных скважинах, контролирует глубину вечной мерзлоты…
Прежде чем отправиться в администрацию экспедиции, Сергеев, на правах аборигена, потащил коллегу знакомиться с сослуживцами в камеральное здание, располагавшееся по соседству с административным корпусом. Комната, в которой сидели за письменными столами, заваленными топографическими картами и аэрофотоснимками, парень и две женщины, сразу же заполнилась приветливыми возгласами.
– О! Какие люди! Серёга! А мы ждём-пождём, а его всё нету и нету! – выскочил из-за стола ему навстречу улыбающийся сверстник.
– Привет, Данька, привет, девчата, – приобняв за плечи Данила и радуясь встрече, ответил Сергеев. – Недолгой оказалась наша разлука, летом уехал, зимой вернулся. Будто и не увольнялся, даже соскучиться толком не успел… Зато я не один вернулся, с пополнением, – и он представил рядом стоящего попутчика.
– Да и мы не больно-то скучали, – парировала одна из сотрудниц. – А о пополнении нам сообщили раньше тебя. Правда, мы думали, что Славутич – это солидный дядька. – Она критическим взглядом смерила Славича и вынесла милостивый вердикт: – Но, как говорится, золотник хоть и невелик, да всем нужен.
– Хорошо, что не золотарь, – стараясь скрыть смущение от последней фразы, согласился «золотник». – Выходит, прозвище вперёд меня прилетело…
В самый разгар обмена новостями в камералку вошёл худощавый мужчина лет сорока пяти. Он снял полушубок, меховую ушанку, пригладил ладонью светлые вихры на голове и пожал руки прибывшим сотрудникам.
– Сёмин Виталий Артемьевич, начальник гидрогеологической партии, – назвал он себя и, услышав имена в ответ, продолжил: – Выхожу из конторы, а мне курильщики на крыльце докладывают, что в камералку продефилировали какие-то незнакомцы с котомками. Я сразу догадался, что это к нам. Очень рад. С такими молодцами нам теперь всё по плечу.
Он присел к столу и сразу ознакомил с ближайшими планами.
– Я тоже здесь без году неделя, так что вместе будем начинать. В конце марта, как только морозы пойдут на убыль, нужно приступать к полевым работам. Так что на подготовку у нас есть ещё почти два месяца. До поля надо будет облететь проектную площадь, отметить участки с активными проявлениями подземных вод: наледи, незамерзшие участки русел, возможно, и сами источники удастся зафиксировать. Потом, сверившись с разломами геологической карты, с результатами дешифровки аэрофотоснимков и облёта, наметить нитку маршрута, и до начала таяния снегов провести замеры источников с отбором пробы воды на гидрохимический анализ.
– Вот у нас, советских, сразу о работе, – с иронией и укоризной перебила начальника вторая из сотрудниц. – Нет, чтобы сначала горячим чаем напоить, а уж потом про дела поговорить.
– Ну, Виктория, гостеприимством женщины заведуют… всё, всё, сдаюсь, – поднял начальник руки, предваряя возражение, – переходим на чай. Пока прилетевшие соколы не оттают от мороза – о работе ни слова. Заодно и мы погреемся. А потом поведу парней в администрацию оформляться и знакомиться с экспедиционным руководством. Сергей, как и обещали в приглашении, будет старшим гидрогеологом по ключевым участкам, ну а Вечеславу надо зафиксировать дебит подземных вод, выходящих на поверхность, по всей остальной площади съёмки, где это возможно, а также наладить наблюдение за гидрологическим режимом речек и наледей на круглогодичных постах, потому быть ему начальником отряда.
За чаем сумбурный разговор о том о сём опять плавно свернул на «запретную» тему. И первой нарушила только что установленное табу сама Виктория, которую волновало намеченное участие в первом зимне-весеннем маршруте её мужа. Да ведь давно это известно, что контролировать себя труднее, чем других. К тому же чем может объединяться коллектив, сформированный ради цели, которая уже запроектирована и утверждена на всех ведомственных уровнях? Конечно, громадьём планов, касающихся всех и каждого в отдельности.
Глава 2 ЖИЗНЬ БЕЗ БЮРОКРАТИИ
Перемены всегда содержат массу новшеств. И человек так уж устроен, что относится к любым из них благосклонно, если те находят отклик в душе, хотя и могут быть трудными. Ведь всякая проблема – явление временное, и после её решения дела идут в гору. И чем быстрей это случается, тем светлей становится бытие…
Предназначенная Славичу часть полевых работ в проекте оказалась хлопотной. Если на ключевые участки и на гидропосты заброска людей и снаряжения планировалась вездеходом или вертолётом, то для длительных маршрутов требовался старый, испытанный практикой, гужевой транспорт. Нужны были олени (с нартами зимой, с вьючными сумами летом) и каюры, умеющие с ними управляться, потому что только такой транспорт мог беспрепятственно передвигаться по таёжному бездорожью, и при этом не требовать по рации запчастей и солярки.
Перед поездкой в Бяс-Кюёль, где располагалась оленеводческая администрация и подбаза экспедиции, они с Сергеем натаскали свежеструганных досок, за два дня сколотили перегородку в комнате общежития, отделив кровати и стол от прихожей с навесным умывальником и кухонным столиком, смастерили вешалку для одежды, полки для книг и посуды. А на следующее утро Славич, посетовав, что не успел надышаться запахом смолистого дерева в устроенном жилище, влез на пассажирское место в кабине бензовоза и укатил по зимнику на север, заключать договор с оленеводческим хозяйством.
Триста с гаком километров зимника соединяли посёлок геологоразведчиков с райцентром на берегу Лены, в который из железнодорожной станции Усть-Кут завозились по реке горюче-смазочные материалы, буровые станки, взрывчатка, продукты питания и прочий груз, необходимый и для разведки руды, и для бытовых нужд экспедиции. Из райцентра в течение зимы всё это перебрасывалось в экспедицию большегрузным транспортом. А посередине между райцентром и экспедицией на берегу Чары и затерялось небольшое поселение Бяс-Кюёль.
КрАЗ-наливник с прицепом двигался медленно, и Славич успевал рассматривать сквозь двойные стёкла кабины заиндевелый лес, распадки и дорогу, обрамлённую навалами смёрзшегося снега после бульдозерной расчистки. Дремучая и будто бы тесная тайга выглядела совсем не такой, как в иллюминаторе самолёта, а какой-то настороженной, непредсказуемой, чем-то напоминающей затаившегося зверя. Её мощь и величавое спокойствие одновременно и восхищали, и будоражили мысли, и радовали, что скоро он вольётся в неё, и, может быть, она откроет свои тайны. Ему вспомнились прочитанные когда-то древние значения слов «тайга и тайна», в которых «тай» – это преграда, «га» (гать) – дорога, а «на» – знание. То есть, получалось, что тайга – это конец пути, а тайна – конец знаний… «Хм, это, видимо, для тех, кто сидит дома, а для меня ведь только самое начало нового пути и новых знаний» – промелькнуло в мыслях…
Но всё это таилось в будущем, а в ближайшей перспективе его беспокоил договор, поскольку никакой предварительной беседы с оленеводческим хозяйством не было. «Вдруг не подпишут? Ведь без договора работа сорвётся, – донимали соображения. – А если подпишут, то на чьих условиях, на какой период?.. Будет ли место на подбазе экспедиции для ночёвки, если придётся задержаться?» В общем, как не отгонял Славич вопросы, они назойливо висели в воздухе.
Узкий коридор из высоких заиндевелых елей и лиственниц раздвинулся, и впереди показалась изба. Водитель оживился, повеселел.
– Вот и половинка дороги до Бяс-Кюёля. Сейчас разомнём ноги, чайку хлебнём, с Василичем пообщаемся – ещё тот балагур, – поделился он со Славичем своим настроением. – Он здесь истопником на время зимника, чтобы шофера могли в тепле передохнуть, размять мышцы и подкрепиться. Кукует в одиночку, поговорить не с кем, и если кто останавливается, он навёрстывает.
Как только бензовоз остановился, и хлопнули дверки кабины, из избы вышел худощавый мужичок лет под пятьдесят с седой окладистой бородой, в распахнутой телогрейке, и приветственно приподнял руку.
– Я уж думал у шоферов выходной, ещё никто не проезжал.
– Окстись, Василич. Отдыхать будем, когда ледовую переправу на Лене закроют.
– Да-к это: послал гонца за пузырём, а он запропастился. Всякое передумаешь, вплоть до того, что тот его оприходовал и отсыпается теперь где-нибудь.
– Ну, ты придумаешь! Кому нужен твой пузырь? Не переживай.
– А это кто с тобой? – бородач посмотрел на Славича, пропуская в избу гостей. – Что-то не видел раньше, хоть скоро уж три года в экспедиции. Может, запамятовал?
– Нет, не запамятовал, я-то всего три дня как здесь объявился, – улыбнулся Славич непосредственности истопника.
– И откудова пожаловал? С каких краёв? С северов али с югов?