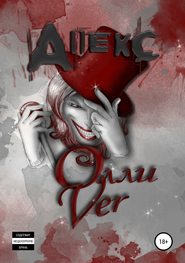По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Белые лилии
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я окончательно отпускаю поводья – тело наливается свинцом, становится куском холодного, монолитного мрамора. Руки Риммы быстро отпускают меня, а затем, огромная, но удивительно проворная, она приподнимается и хватает Максима за запястье, которое он занес.
– Положи, – низкий голос рокочет, ореховые глаза внимательно всматриваются и узнают в тонких бликах металла хорошо знакомое, отливающее холодом стали, безумие…
Наследие его матери – подарок крови, зашифрованный последовательностью синтеза белков, тонкое кружево спиралей ДНК. Её наследие. Его наследие. Их общий подарок тем, кто будет после них. Сплетение жестокости отца и безумства матери – удивительный симбиоз высших степеней порока и уязвимости, текущей по его венам. И там, где безумие подтачивает основу его бытия, жестокость возмещает потерянное – раз за разом, кирпичик за кирпичиком на смену верным алгоритмам приходят баги программирования и виртуальные вирусы. Программа ненависти, встраивающаяся, заменяющая собой, пожирающая нечто настолько красивое, настолько уникальное, прекрасное, что этим не возможно не восхищаться. Коронованный принц нелюбимых, сумевший заставить огромный город полюбить себя. Искрящееся индиго, рожденное темно-синей ненавистью и алой любовью, сжигает красивое тело, уродует некогда чистую душу. Это уже есть – впаянные в сознание изуродованные понятия о добре и зле, лишенные истин непреложные догмы его бытия. Улучшенная версия вседозволенности. С этим уже ничего нельзя сделать. Не изменить того, что каждую секунду, каждое мгновение жизни изнутри, откуда-то из самых основ его сущности, вырывается сверкающая Сказка, отравляет его, но… Раскаленный добела жидкий металл ненависти кто-то должен превратить во что-то стоящее, пока он не застыл сам по себе. Кто-то должен создать литейную форму для сплава жестокости и безумия или… поддерживать нужную температуру плавления.
– Максим, – ровно и спокойно повторяет Римма, – убери шприц.
Парень смотрит на неё, сжимает кулак…
… а затем выворачивает кисть, высвобождает руку. Римма замирает в боевой готовности. Максим отшатывается назад, поворачивается к рулю, замирает, а затем открывает водительскую дверь и выходит из машины. Римма облизывает пересохшие губы, чувствует мерзкую испарину на спине, слышит собственное дыхание низким вибрато по сжатому воздуху салона и легкую рябь дрожи по пальцам.
Глухо хлопает дверь, и Максим шагает вперед. Быстрыми шагами, как можно дальше от машины. В мир, шелестящей под ногами, травы, в звонкую тишину иссиня-черной ночи, в момент, когда нужно бежать как можно быстрее…
Вопль – оскалив белоснежные клыки, Максим захлебывается криком и останавливается. Он сжимает зубы, корчась от ненависти, словно от боли ломающихся костей, и судорожный вдох, словно стон, чтобы снова заорать во всю глотку. До звона в ушах, до судороги в горле, по не сведет легкие от желания вдохнуть. Он сгибается пополам, упираясь руками в колени, жадно выдыхает и только теперь видит шприц в руке. Разгибается, замахивается и забрасывает его в темноту.
– Сука! – орет он.
Вот теперь он понимает.
«Когда-нибудь я создам что-то огромное…»
Максим рычит, хрипит и орет – сверкающие искры щекочут воображение, индиго затуманивает разум, распуская лепестки, расправляя тонкие завитки Сказки.
Все, чего ему сейчас хочется – вернуться и задушить меня.
Глава 12. У каждого свой призрак
Полумрак и тишина. Теплый, сухой скрип половицы.
Она поворачивается – её глаза ловят меня на предпоследней ступеньке. Прищур, легкая ухмылка:
– Тебе помочь?
Пытаюсь открыть рот, но губы такие тяжелые, мне невероятно лень говорить. Меня слегка штормит, и там, на предпоследней ступеньке я решаю – что бы здесь ни происходило – идет оно всё в зад собачий со своей загадочностью и многозначительной тишиной. Вздыхаю, сажусь на ступеньку, руки – к лицу. Я бубню в ладони, она хмурится, пытаясь расслышать меня, а затем:
– Я ничего не поняла.
Убираю руки от лица:
– Продажная шлюха, – тихо повторяю я.
– А, это… – она улыбается. – Работа такая. Тебя это смущает?
– А не должно?
Она хмыкает, улыбается, а затем наигранно хмурит красивое лицо, становясь самой настоящей Василисой премудрой из самой страшной сказки в моей жизни:
– Дай подумать… – и поднимает огромную ладонь, потирает подбородок, в театральной задумчивости изучая низкий бревенчатый потолок, а затем. – Может, я проституткой работала? Или террористам зады подтирала? Нет, нет… – она сверкает янтарем глаз, переводя взгляд на меня, – я человека убила.
Смотрю на неё и чувствую, как мне остро не хватает слов, доводов, оправданий – растворились в ватной тишине, осыпались пеплом к ногам. Нечем крыть. Кто я такая, чтобы судить? Молча развожу руками, а она перестает улыбаться:
– История показывает, что есть звания чином выше продажной шлюхи, моя королева, – говорит Римма.
Я киваю – да, действительно. Просто прямо сейчас мне не очень хочется разбираться в иерархии блядей, шлюх, проституток, королей и королев, придворных шутов, палачей и клоунов. Кто кого выше по званию? У кого какие регалии? Не хочу разбираться. Оглядываюсь, даже не пытаясь узнавать – где бы я ни была, за меня уже выбрали.
Круглый брус, низкий потолок, большие окна в деревянной раме, за которыми густая, бархатная ночь до самых краев мира, а тишина такая глубокая, такая многослойная, что даже треск поленьев в камине кажется глухим, словно из-под одеяла. Журнальный столик из темного дерева, а на нем полупустая кружка с чем-то темным и сложенная вчетверо газета, кресло напротив камина и пухлый мини-диван у стены, на котором восседает Римма.
– Мы одни?
Она кивает, и я зачем-то повторяю этот жест за ней, словно я и так знала. Отвожу взгляд, смотрю в пол. Римма говорит:
– Ты не обижайся. Так надо было…
– Да мне плевать, – тихо говорю я деревянным доскам.
В ответ Римма хмыкает:
– Ну да…
Я поднимаю глаза и смотрю, как точеный нос правильной линией спускается к барельефу верхней губы, два пухлых валика красивого рта, чистая, матовая кожа и идеально выверенный овал лица. И чего ей не пошлось в модели? Мне бы спросить её, «С какой стати я буду обижаться на то, что его здесь нет?», но меня больше интересуют синяки и ссадины на её лице. Мне бы пояснить, что прежде, чем обидеться на его здесь отсутствие, где бы это «здесь» ни было, мне полагается «прообижать» хотя бы тот факт, что меня клеймили лилией позора на глазах почтенной публики, потому как в порядке очередности это событие идет первым. Но меня больше занимает фантазия, в которой я жму руку тому, кто поставил ей щедрый фингал.
– Кто тебя так отделал? – спрашиваю я.
Она смотрит на меня, словно сомневается, что панацея «отпустила» меня, но я говорю:
– Отправлю ему открытку с благодарностями.
И Римма довольно улыбается. Она притрагивается подушечками пальцев к скуле, к синяку под глазом:
– Это? – соболиные брови в деланном кокетстве рисуют удивление. – Ну… я бы с удовольствием пересказала тебе какую-нибудь захватывающую экшн-сцену из боевика, где я одна, а их семеро…
– Больше смахивает на порнуху.
– Ну, можно же совмещать.
Повисла тишина, в которой я смотрю на неё, она улыбается мне, а треск поленьев придает нетривиальной романтики в наше молчание. Я смотрю на неё и впервые мне интересно, с кем она спит, вышивает ли крестиком, любит ли мороженное и Джастина Бибера? Одинока ли? Да, похоже, не до конца выветрилась панацея…
– Жаль разочаровывать тебя, но это от скуки. Мы убивали время в небольшом рукопашном турнире, – становясь совершенно серьезной, говорит она. – Я бульон сварила. Тебе нужно поесть.
Опускаю глаза и, рассматривая рисунок линий на своей ладони, прислушиваюсь к своему телу – ничего. Замороженное тело, заторможенная голова на мысли о еде никак не откликнулись. Ничего. Молчание. Поднимаю глаза и рассеяно пожимаю плечами:
– Не хочу.
А хочу я схватить панацею за её тонкий, длинный хвост и вытащить из своего тела, как мерзкого паразита. Хочу почувствовать, как она разжимает челюсти, как отпускает мою нервную систему, и по ней, словно по пересохшему руслу, разливается соленая кровь моей воли, наполняя, наводняя, заливая жизнью. А хочу я вернуть тот день, когда Светка (никак не могу вспомнить её лицо…) предложила мне поехать в сказочный санаторий, и выдрать этот день из ленты времени, вырезать, как бракованный кадр, и никогда не знать той ветви реальности, которая прямо сейчас разворачивается в эту ночь, в это самое мгновение, где я сижу сейчас, вот на этой самой ступеньке, ничего не зная о том, что меня ждет. А самое страшное – ничего не желая знать о себе, о том, к чему эта ветка приведет меня, а вот что мне действительно интересно, так это…
– А почему ты не сказала мне, что Максим жив?
Римма смотрит на меня, не отводя глаз, не краснея или кусая губы, и я снова и снова, как в первый раз, поражаюсь размаху людского хладнокровия. Она говорит:
– Положи, – низкий голос рокочет, ореховые глаза внимательно всматриваются и узнают в тонких бликах металла хорошо знакомое, отливающее холодом стали, безумие…
Наследие его матери – подарок крови, зашифрованный последовательностью синтеза белков, тонкое кружево спиралей ДНК. Её наследие. Его наследие. Их общий подарок тем, кто будет после них. Сплетение жестокости отца и безумства матери – удивительный симбиоз высших степеней порока и уязвимости, текущей по его венам. И там, где безумие подтачивает основу его бытия, жестокость возмещает потерянное – раз за разом, кирпичик за кирпичиком на смену верным алгоритмам приходят баги программирования и виртуальные вирусы. Программа ненависти, встраивающаяся, заменяющая собой, пожирающая нечто настолько красивое, настолько уникальное, прекрасное, что этим не возможно не восхищаться. Коронованный принц нелюбимых, сумевший заставить огромный город полюбить себя. Искрящееся индиго, рожденное темно-синей ненавистью и алой любовью, сжигает красивое тело, уродует некогда чистую душу. Это уже есть – впаянные в сознание изуродованные понятия о добре и зле, лишенные истин непреложные догмы его бытия. Улучшенная версия вседозволенности. С этим уже ничего нельзя сделать. Не изменить того, что каждую секунду, каждое мгновение жизни изнутри, откуда-то из самых основ его сущности, вырывается сверкающая Сказка, отравляет его, но… Раскаленный добела жидкий металл ненависти кто-то должен превратить во что-то стоящее, пока он не застыл сам по себе. Кто-то должен создать литейную форму для сплава жестокости и безумия или… поддерживать нужную температуру плавления.
– Максим, – ровно и спокойно повторяет Римма, – убери шприц.
Парень смотрит на неё, сжимает кулак…
… а затем выворачивает кисть, высвобождает руку. Римма замирает в боевой готовности. Максим отшатывается назад, поворачивается к рулю, замирает, а затем открывает водительскую дверь и выходит из машины. Римма облизывает пересохшие губы, чувствует мерзкую испарину на спине, слышит собственное дыхание низким вибрато по сжатому воздуху салона и легкую рябь дрожи по пальцам.
Глухо хлопает дверь, и Максим шагает вперед. Быстрыми шагами, как можно дальше от машины. В мир, шелестящей под ногами, травы, в звонкую тишину иссиня-черной ночи, в момент, когда нужно бежать как можно быстрее…
Вопль – оскалив белоснежные клыки, Максим захлебывается криком и останавливается. Он сжимает зубы, корчась от ненависти, словно от боли ломающихся костей, и судорожный вдох, словно стон, чтобы снова заорать во всю глотку. До звона в ушах, до судороги в горле, по не сведет легкие от желания вдохнуть. Он сгибается пополам, упираясь руками в колени, жадно выдыхает и только теперь видит шприц в руке. Разгибается, замахивается и забрасывает его в темноту.
– Сука! – орет он.
Вот теперь он понимает.
«Когда-нибудь я создам что-то огромное…»
Максим рычит, хрипит и орет – сверкающие искры щекочут воображение, индиго затуманивает разум, распуская лепестки, расправляя тонкие завитки Сказки.
Все, чего ему сейчас хочется – вернуться и задушить меня.
Глава 12. У каждого свой призрак
Полумрак и тишина. Теплый, сухой скрип половицы.
Она поворачивается – её глаза ловят меня на предпоследней ступеньке. Прищур, легкая ухмылка:
– Тебе помочь?
Пытаюсь открыть рот, но губы такие тяжелые, мне невероятно лень говорить. Меня слегка штормит, и там, на предпоследней ступеньке я решаю – что бы здесь ни происходило – идет оно всё в зад собачий со своей загадочностью и многозначительной тишиной. Вздыхаю, сажусь на ступеньку, руки – к лицу. Я бубню в ладони, она хмурится, пытаясь расслышать меня, а затем:
– Я ничего не поняла.
Убираю руки от лица:
– Продажная шлюха, – тихо повторяю я.
– А, это… – она улыбается. – Работа такая. Тебя это смущает?
– А не должно?
Она хмыкает, улыбается, а затем наигранно хмурит красивое лицо, становясь самой настоящей Василисой премудрой из самой страшной сказки в моей жизни:
– Дай подумать… – и поднимает огромную ладонь, потирает подбородок, в театральной задумчивости изучая низкий бревенчатый потолок, а затем. – Может, я проституткой работала? Или террористам зады подтирала? Нет, нет… – она сверкает янтарем глаз, переводя взгляд на меня, – я человека убила.
Смотрю на неё и чувствую, как мне остро не хватает слов, доводов, оправданий – растворились в ватной тишине, осыпались пеплом к ногам. Нечем крыть. Кто я такая, чтобы судить? Молча развожу руками, а она перестает улыбаться:
– История показывает, что есть звания чином выше продажной шлюхи, моя королева, – говорит Римма.
Я киваю – да, действительно. Просто прямо сейчас мне не очень хочется разбираться в иерархии блядей, шлюх, проституток, королей и королев, придворных шутов, палачей и клоунов. Кто кого выше по званию? У кого какие регалии? Не хочу разбираться. Оглядываюсь, даже не пытаясь узнавать – где бы я ни была, за меня уже выбрали.
Круглый брус, низкий потолок, большие окна в деревянной раме, за которыми густая, бархатная ночь до самых краев мира, а тишина такая глубокая, такая многослойная, что даже треск поленьев в камине кажется глухим, словно из-под одеяла. Журнальный столик из темного дерева, а на нем полупустая кружка с чем-то темным и сложенная вчетверо газета, кресло напротив камина и пухлый мини-диван у стены, на котором восседает Римма.
– Мы одни?
Она кивает, и я зачем-то повторяю этот жест за ней, словно я и так знала. Отвожу взгляд, смотрю в пол. Римма говорит:
– Ты не обижайся. Так надо было…
– Да мне плевать, – тихо говорю я деревянным доскам.
В ответ Римма хмыкает:
– Ну да…
Я поднимаю глаза и смотрю, как точеный нос правильной линией спускается к барельефу верхней губы, два пухлых валика красивого рта, чистая, матовая кожа и идеально выверенный овал лица. И чего ей не пошлось в модели? Мне бы спросить её, «С какой стати я буду обижаться на то, что его здесь нет?», но меня больше интересуют синяки и ссадины на её лице. Мне бы пояснить, что прежде, чем обидеться на его здесь отсутствие, где бы это «здесь» ни было, мне полагается «прообижать» хотя бы тот факт, что меня клеймили лилией позора на глазах почтенной публики, потому как в порядке очередности это событие идет первым. Но меня больше занимает фантазия, в которой я жму руку тому, кто поставил ей щедрый фингал.
– Кто тебя так отделал? – спрашиваю я.
Она смотрит на меня, словно сомневается, что панацея «отпустила» меня, но я говорю:
– Отправлю ему открытку с благодарностями.
И Римма довольно улыбается. Она притрагивается подушечками пальцев к скуле, к синяку под глазом:
– Это? – соболиные брови в деланном кокетстве рисуют удивление. – Ну… я бы с удовольствием пересказала тебе какую-нибудь захватывающую экшн-сцену из боевика, где я одна, а их семеро…
– Больше смахивает на порнуху.
– Ну, можно же совмещать.
Повисла тишина, в которой я смотрю на неё, она улыбается мне, а треск поленьев придает нетривиальной романтики в наше молчание. Я смотрю на неё и впервые мне интересно, с кем она спит, вышивает ли крестиком, любит ли мороженное и Джастина Бибера? Одинока ли? Да, похоже, не до конца выветрилась панацея…
– Жаль разочаровывать тебя, но это от скуки. Мы убивали время в небольшом рукопашном турнире, – становясь совершенно серьезной, говорит она. – Я бульон сварила. Тебе нужно поесть.
Опускаю глаза и, рассматривая рисунок линий на своей ладони, прислушиваюсь к своему телу – ничего. Замороженное тело, заторможенная голова на мысли о еде никак не откликнулись. Ничего. Молчание. Поднимаю глаза и рассеяно пожимаю плечами:
– Не хочу.
А хочу я схватить панацею за её тонкий, длинный хвост и вытащить из своего тела, как мерзкого паразита. Хочу почувствовать, как она разжимает челюсти, как отпускает мою нервную систему, и по ней, словно по пересохшему руслу, разливается соленая кровь моей воли, наполняя, наводняя, заливая жизнью. А хочу я вернуть тот день, когда Светка (никак не могу вспомнить её лицо…) предложила мне поехать в сказочный санаторий, и выдрать этот день из ленты времени, вырезать, как бракованный кадр, и никогда не знать той ветви реальности, которая прямо сейчас разворачивается в эту ночь, в это самое мгновение, где я сижу сейчас, вот на этой самой ступеньке, ничего не зная о том, что меня ждет. А самое страшное – ничего не желая знать о себе, о том, к чему эта ветка приведет меня, а вот что мне действительно интересно, так это…
– А почему ты не сказала мне, что Максим жив?
Римма смотрит на меня, не отводя глаз, не краснея или кусая губы, и я снова и снова, как в первый раз, поражаюсь размаху людского хладнокровия. Она говорит: