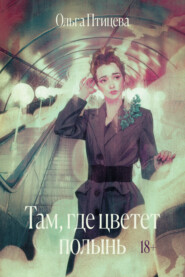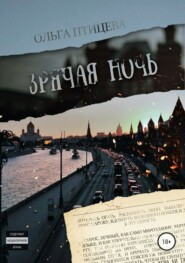По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Рэм
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Только в подъезде он смог перевести дух. Похмелье делало мир резким и невыносимо реальным. Завалиться бы сейчас к Серому, пошарить рукой под шкафом, выудить бутылку, скрутить ей голову и сделать парочку глотков. Вначале затошнит с новой силой, а потом по телу разольется тепло и станет хорошо-хорошо, спокойно-спокойно.
Но под окнами бабкиной кухни лежал мусорный мешок с Маркизом. А Серый – отморозок, конечно, но не самоубийца, чтобы пускать к себе Рэма после вчерашнего. Думать о том, что случилось, было почти так же невозможно, как и не думать об этом. Рэм спустился в подвал, нашел ржавую лопату, выбрался наружу и поспешил обогнуть дом, неловко оглядываясь. Выйдя на улицу, он как-то сразу понял, что ознобом его бьет не только похмелье, но и страх.
– Черт… – ругался он сквозь зубы, но легче не становилось. – Черт! Черт!
«Не черти». – Голос мамы в голове прозвучал укоризненно и мягко, и Рэму тут же полегчало.
Мешок с Маркизом оказался на удивление тяжелым. Бабка выглядывала из окна, елозя передником по кровавой луже и даже не замечая этого. Рэм хотел было сказать, но передумал. Кивнул ей, забросил мешок на плечо и пошел к палисаднику. Местные давно уже превратили его в кладбище домашних животных, здешний суглинок легко укроет еще одного Маркиза и глазом не моргнет.
Бабка провожала их взглядом, размашисто крестя воздух перед собой. Рэм не видел этого, но спиной чувствовал, как от каждого крестного знамения, пущенного ему вослед, по округе разносится едкий запах беды. Полынью пах невинно убиенный Маркиз, да и от самого Рэма пованивало. Следующим в гостеприимный суглинок палисадника мог лечь кто угодно – птичка там какая-нибудь, собачка. Или вот напившийся до дебильного рыцарства Рэм, влезший прошлым вечером абсолютно не в свое дело.
* * *
Лопата нехотя вгрызалась в сухую землю. Черенок скользил в мокрых ладонях. Наступала та отвратительная стадия похмелья, когда тело усиленно потеет, трясется и обмякает. Рэм тяжело сглотнул и попытался дышать глубоко и ровно. Голова закружилась еще сильнее.
Ямку он вырыл маленькую, но сил долбить глину снова и снова не было. Пришлось положить мешок на дно и хорошенько утрамбовать его лопатой. Прикоснуться к полиэтилену, под которым истекал кровью и полынной горечью замученный по его вине кот, Рэм себя так и не заставил. Постоял немножко, опершись на черенок, помолчал. Маркиз укоризненно высился над краями углубления, где суждено ему было истлеть.
– Ну прости, друг, – пробормотал Рэм.
Первая горсть рыжеватого суглинка присыпала мешок, и сразу стало легче дышать. Рэм даже насвистывать что-то начал, старательно не попадая в ноты. Вот сейчас он сложит с себя полномочия могильщика и пойдет с повинной. Прямо к Толе Лимончику пойдет, по дороге купит бутылку белой лошади и пойдет.
– Слушай, Толь, я вчера бухой был в доску, – скажет. – Если попутал чего, ты не серчай уж, а?
Толик покачает головой, укрепленная гелем челочка останется недвижимой. Сам тонкокостный, жилистый, а пальцы у него короткие и грубые, будто свои он потерял, а эти ему большие – какие достал, с такими и ходит. Рэму казалось, что Толик этих своих пальцев стесняется, поэтому старался на них не пялиться, но глаза сами нет-нет, а скользили по узким ладоням Лимончика, из которых росли кряжистые уродцы по пять штук на каждой.
– Давай лучше вот, выпьем с тобой, – предложит ему Рэм, когда пауза совсем уж затянется. – Я тебе лошадку привел.
Он так ляпнул однажды, а Толик хмыкнул в ответ. И в следующий раз. И потом еще. Как-то само это вошло у них в привычку, и Рэма глупо обнадеживала мысль, что Лимончик его простит, стоит только принести бутылку и пошутить про лошадь. И все забудется. Сразу все забудется.
И не будет этой дебильной драки и крови, падающей с кончика носа, так красиво вылепленного на Толином лице, не будет. Это ж надо было не просто встрять за девку так по-глупому, так еще и Лимончику прямо по морде, со всего маху, с таким удовольствием прописать. Что-то еще кричал потом, кажется, даже плюнул. Рыцарь сорока островов, мать твою. Мститель херов. За такое в лучшем случае отмудохают в гаражах так, что кровью писать будешь до конца года. Но скорее всего, закопают. Рядышком с Маркизом. И ведь не пожалели животинку, суки.
Кто его так, Рэм даже не сомневался. Макс по кличке Цынга. Страшный, как всадник Апокалипсиса, почти лысый, с рябой кожей цвета пыли, мутными глазами навыкате и красными голыми деснами. За эти десна кто-то и прозвал его именем невиданной болезни. Кажется, сам Толик и прозвал.
– В книжке читал, там полярники херачили через снег и все почти от нее сдохли. А самый умный все это в дневник записывал. Вот они такие же стремные были, как ты, Макс.
Рэм тогда мысленно присвистнул – надо же, наш лендлорд когда-то читал про двух капитанов. Но промолчал, он вообще старался особенно рот не раскрывать. Компания у них выдалась хоть куда – трое быстроногих бегунков и Толя с секретным выходом на следующую ступень. Эта устоявшаяся иерархия нравилась Рэму больше всего.
Когда день ото дня вязнешь в полнейшем непонимании происходящего, правильнее всего схватиться за простые правила, вызубрить их и жить, точно зная, что от тебя требуется, не задумываясь, почему происходит все остальное. Военное училище, которое Рэм вспоминал временами со странной ностальгией, подошло бы просто идеально. Но путь туда был заказан. Стоило только подумать об утренней строевой, о форме с подшитым воротничком, скрипучих берцах и пацанах, толпящихся возле умывальников, как начинали ныть отбитые ребра и сводило судорогой губы. Губы ему отец разбил как-то совсем уж неудачно. Теперь нижняя почти не слушалась – вечно запаздывала, уходила вниз, прочерченная шрамом. Сколько там прошло уже? Год? Полтора? Два почти. Надо же, как быстро. Полынно как.
Вяло перескакивая с одной мысли на другую, Рэм сам не заметил, как над мешком с Маркизом возвысился рыжий холмик. Спи спокойно, Маркиз. Попался ты под горячую руку, погиб незаслуженно, вон как от тебя смертью полынной пасет, так что вечно мурчать тебе в котовьем раю. Жрать гречку с тушенкой, греть пузо, чесаться лбом о руку ангельскую. Рэм обтер вспотевшее лицо, отряхнул лопату. Уйти вот так, будто не тушку мертвую закапывал, а мусор какой-то, было неловко. Но не стоять же тут до ночи.
– Это они его, да? – Чуть слышный голос легко было перепутать с шелестом июньской листвы.
Легко и заманчиво. Но куда там. Даже не оборачиваясь, Рэм точно знал, кто стоит у него за спиной. Вот принесло же ее нелегкая! Дура, какая дура! Ну сиди ты дома, не бликуй с недельку, подожди, пока все успокоится. Нет же, поперлась через весь квартал! У Толика глаза из каждого окна моргают. Вся подростня у него с рук жрет. Миксы жрет, соли жрет, травой закусывает. От воспаленного внимания, ускоренного химией до сверхзвукового размаха, не скрыться, не спрятаться. И слух о вчерашней драке уже разошелся среди них, а сама она обросла самыми извращенными подробностями, бесконечно далекими от реальности. И причина, и повод, а главное – следствие. Рэма они уже похоронили, конечно. Если и видели, как шел он с мешком и лопатой, то не удивились: идет будущий покойничек могилку себе копать. Но она-то! Она! Дура.
– Мне бабушка Нина сказала, что ты сюда пошел. Маркиза хоронить… – и всхлипнула.
Значит, вчера она не плакала. Не голосила, не молила о пощаде. Хотя на кону не котик был дворовый. Отбивалась только отчаянно и зло. А сейчас, смотри-ка, рыдает. Рэм нервно поежился, слушая, как она топчет за спиной, хрустит веточками, шмыгает носом, но не оборачивался. Если мог бы, так и ушел бы отсюда – бочком, спиной вперед. В детстве они говорили – крабиком. Вот крабиком и ушел бы.
– Послушай, я решила пойти в полицию! – выпалила она, обрывая всхлипы.
И стало совсем уж плохо. В полицию! Пришлось поворачиваться к ней лицом, ноги мягко подрагивали, будто пружинили, но эта ребячья сила в них была очередным обманом. Рэм воткнул лопату в землю и наконец посмотрел этой дуре в глаза.
Полыни в них не было. Серые, полные слез, припухшие от бессонной ночи, живые глаза. Рэм сам не ожидал, что выдохнет с таким облегчением. Но выдохнул. Обошлось. Значит, вчера он ее все-таки вытащил. Линия судьбы сделала вираж, и пошла себе Варя Кострыкина, двадцати трех лет от роду, дальше. Вот и славно. Если пацаны его закопают, то вот эти серые плачущие, отчаянно живые глаза того, в принципе, стоят.
– Дура, – бросил Рэм, возвращаясь с небес в суглинок, где скоро ему лежать. – Какая же ты, Варя, дура!
Она должна была отшатнуться, швырнуть в него ответное оскорбление и гордо уйти в закат. Но Варя осталась стоять, задрав дрожащий подбородок. На шею она повязала легонький шарфик, весь в мелкую ромашку. Под ним наливались багровой синевой отпечатки злых пальцев. Такие же и на запястьях, но их Варя спрятала под тонкой курточкой. Истерзанные беззубым ртом Цынги губы она припудрила, на место выдранного клока волос зачесала локон из косого пробора. И стояла теперь перед Рэмом чистенькая, свеженькая, отчаянно гордая, но он-то все видел. Он сам умел отлично скрывать ненависть к телу: прятать синяки под одеждой, кривить усмешку, будто не губа перебитая не слушается, а сам он весь из себя ироничный герой. Но унижение воняет так же сильно, как смерть. Горечь пережитого копится в теле, тело дрожит и кренится, через пробитую броню в нутро заливается раскаленный металл ненависти к себе. Развязок такого сюжета не сосчитать, но каждая заканчивается рыхлым суглинком, бьющимся о деревянную крышку гроба.
Как было уйти от нее – дрожащей, униженной, избитой? Рэм хотел бы, да не смог. Так и остались стоять. Не приближаясь, но и не расходясь.
– Я обязательно пойду в полицию. А ты свидетель. И должен пойти со мной, – каким-то отстраненным, отрепетированным голосом сказала она, помолчала и добавила: – Пожалуйста.
Это «пожалуйста» его, конечно, добило. Рэм оперся о черенок, прогнал из головы образ, как он приходит в отделение полиции, садится за стол к участковому Прохору Игнатьичу, который у Толика главный гурман, и тоненьким голоском начинает докладывать, мол, Лимончик совсем распустился, гражданин начальник, девок по подъездам портит, псами их травит, вон Цынга, блаженный наш, Варю Кострыкину чуть насмерть не засосал, пылесос чертов.
«Не черти», – попросила мама.
Не буду, ма. Не буду.
– Никуда я не пойду. И ты не пойдешь, – по слогам, как маленькой, сказал Рэм. – Ты никому ничего не станешь рассказывать. Не будешь жаловаться, не будешь разбираться. А лучше поезжай куда-нибудь на месяцок. К подружке в Москву, на море там, в горы. – Откашлялся, показно сплюнул под ноги. – Вчера ничего не было, поняла?
И самому стало тошно от собственной трусости, но сдержался. Так правильно, других вариантов нет. У Вари задрожали губы. Потекло из носа, домиком на лбу сошлись брови. Только глаза потемнели не от обиды, а от злости.
– Не было? Не было, говоришь?
Рванула узел шарфа. На белой коже багровел, уходя в синеву, отпечаток ладони. Можно было разглядеть, как сильные пальцы обхватывали мягкую шею, можно было представить, как их обладатель тащил Варю к себе, чтобы присосаться отвратительной пастью. Голыми деснами впиться, пока свободная рука уже шарила под кофточкой, сжимала, выкручивала, вон синева протянулась от высокого ворота между ключиц. Тварь. И Цынга – тварь, и ты сам, Ромочка, сука последняя, если отведешь сейчас взгляд.
Вчерашняя злость всколыхнулась в Рэме: не соврать теперь, что драка была пьяной глупостью, и за белой лошадью не пойти. Не идти нужно было вчера.
Остаться дома, лениво слушать, как бабка разговаривает с телевизором, костерит последними словами проституток и воров, а потом крестится и молитву шепчет. Нет же. Потащила его нелегкая. Пошел к Серому, разлили беленькой, запили пенным, закусили воздушным горошком с дымком. Десять рублей пачка, а сколько удовольствия! Вышел на улицу в ранних сумерках. Пересек палисадник, дорогу перешел, помахал рукой водиле, что его пропустил, сигналя истошно, но как-то по-доброму. А когда подошел к подъезду, услышал возню.
Первая мысль была добродушная: мол, вот же черти малолетние! Невтерпеж совсем, по подъездам шарятся, дома-то мамка заругает. А потом услышал голос Цынги. Его ни с кем не перепутаешь. Гогочет над чем-то, пускает слюни. Поговаривали, что в детстве он был ничего так, здоровенький. Среднюю школу закончил даже. Это ж сколько нужно выжрать дряни, чтобы из чьего-то там сына Максимушки стать облысевшим, потерявшим зубы чудищем? Рэм как-то и не задумывался, что Цынга тоже чей-то сын. А когда эта мысль пришла в голову, то долго потом сидела в ней раскаленным саморезом.
Он тогда еще сильнее уверился в правоте данного обещания: бухать – бухай, а сидеть на хрени химозной не смей. В этом Рэм поклялся сам себе по дороге к бабке. Что в Клину его ждет тотальное дно, он даже не сомневался. Избитому, испуганному до нервной икоты, ему хотелось опуститься на самую илистую грязь, закопаться и сдохнуть там. Лишь бы никогда больше не видеть отца. Не задумываться о том, что случилось. Он ведь на самом деле думал, что поехал крышей. А может, и поехал. И едет до сих пор. Ну и черт с ним.
«Не чертил бы ты, Ромушка…» – вздохнула мама.
Ее голос заглушил визгливый смех Цынги.
– Кусается, с-с-сука! – загоготал он, послышался шлепок, сдавленное сопение.
На обоюдное обжимание в подъезде происходящее там больше не походило. Рэм покачивался, держался за перила, пудовая голова так и норовила упасть на грудь. Ему невыносимо хотелось спать и совсем не хотелось вмешиваться. Он поднялся на последние три ступени, шатаясь подошел к двери и пристроился ключом к замку.
– Пусти! – Голос был приглушенным, Рэм не узнал его или постарался не узнать, что, по сути, одно и то же.
– Ну Варенька, ты чего несговорчивая такая, детка? – А холодный голос Лимончика было не перепутать. – Сказала же, лучше под пса ляжешь, на тебе пса, ложись.
Цынга снова расхохотался, срываясь на истеричные всхлипы.