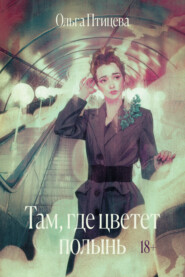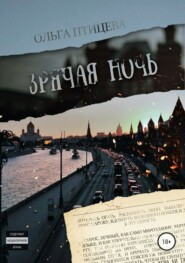По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Рэм
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Вот только темноты не было. И покоя тоже. В родительской спальне горел свет. Рэм попятился. Нужно было уходить, прямо сейчас. Только ноги не слушались. Потому что в прихожей не было и тишины.
Звуки ударов, размеренных и равнодушных, разносились по застывшей квартире, будто сумасшедший повар решил приготовить отбивную. Шлеп. Шлеп. Шлеп. Рэм отлично знал этот звук.
Запах, льющийся из комнаты в прихожую, он тоже знал. Запах, который никак не вязался с пылью антресолей и памятью детства. Запах, который это детство закончил.
На кухне истошно закричала кукушка.
«Полночь», – отстраненно подумал Рэм.
Оттолкнулся от двери и побежал.
Куриная косточка
Самым сложным потом было доказать себе, что все это на самом деле произошло. Успело свершиться, пока сумасшедшая кукушка разрывалась от усердия, отмечая двенадцатью унылыми ку-ку начало новых суток.
Рэм несся по коридору к родительской спальне, а в голове, подрагивая, словно старый диафильм, сменялись кадры, как он сам собирал эти часы. Давно еще. Классе в восьмом, наверное. Конструктор подарила одноклассница на день рождения. Краснела, мяла пакет в потных ладошках. Остальные заметили, загоготали. Пик полового созревания бил сразу по всем фронтам. Одноклассница Галечка Абадурова была миленькая, с детской еще округлостью и совсем Рэму не нравилась. Но подарок он забрал, конечно. И до вечера потом ломал голову, с чего это отличница Галя решила его поздравить, если они и за одной партой-то никогда не сидели.
Зато конструктор оказался замечательный. Дорогущий, наверное. С кучей деталей, с маленькой кукушкой и настоящим часовым механизмом. Даже гирьки были! Шестеренки эти все! А сам домик голубенький в белый горох. Два раза пришлось перебирать, чтобы все заработало. Рэм даже вспотел, но от помощи мамы отказался – не маленький, справлюсь. А когда и правда вышло, то аж в горле защекотало от красоты.
– Это откуда? – бросил проходящий мимо отец, и радость слегка сдулась.
– Это ему девочка на день рождения подарила, – поспешно начала оправдываться мама, ее голос тут же стал тонким, просящим, провоцирующим мигрень. – Одноклассница! Отличница! Абадурова Галя…
Рэм тогда еще ничего толком не понимал: родители были нерушимы и постоянны, как главная величина. Но этот мамин тон заставлял его сжиматься от тревоги.
– Как говоришь? Абадурова? – процедил отец, подошел к столу, схватил часы цепкими своими пальцами, кукушка жалобно вякнула внутри домика. – Это Степана Абадурова дочь, что ли? Паршивец какой! Ему премию все не накинут, решил ко мне через сына подползти? Хер ему, а не премия.
Часы рухнули на стол, одна гирька свесилась с края. Отец вытер пальцы о полотенце, словно успел испачкаться подачкой, брошенной ему через вторые руки.
И вся красота домика померкла, потускнел белый горох, разладились шестеренки, обвисли гири, и даже кукушка растрепалась и кричать стала как-то хрипло. Но мама часы все-таки повесила, так они и остались на стене кухни, в память об очередном жизненном обломе. Рэм их ненавидел, хотя со временем забыл почему.
Вспомнил, пока бежал. Налился тяжелой злостью, как расплавленным свинцом. Неподъемной глыбой она застыла в животе, стоило только ворваться в родительскую спальню, пинком распахнув дверь.
…Первым, что Рэм увидел, застывая на пороге, были светлые обои. Нежный такой беж, с выбитым чуть заметным орнаментом. Цветочки там всякие, завитушки, веточки. Мама сама их выбирала. Как-то в субботу они собрались, сели в машину и поехали в строительный магазин. Отец был в хорошем настроении, не хмурился даже и почти сразу ушел выбирать плинтуса. А мама долго бродила между огромными рулонами, разворачивала их, трогала, улыбалась мечтательно, мол, посмотри, Ромка, какие красивые, какие светлые, как счастливо мы будем с ними жить. В глазах ее читалось непроизносимое. Вопрос, который мучил ее, томил, предлагая смутную надежду: ведь красивые же обои, правда красивые, ведь невозможно же бить кого-то в комнате с такими обоями?
Оказалось, возможно. По бежевой цветочной шероховатости стены щедрой рукой сумасшедшего художника была разбрызгана кровь. И совсем свежая, и уже подсыхающая. Алая, багровая, бурая, коричневая даже. Капли, подтеки, брызги. Кровавая муть, прилипшая к стене в пыточной. Стенка для расстрела.
Отец стоял спиной к двери. Высокий и плечистый, под белой сорочкой бугрятся мышцы. Смотри, Роман, как должен мужик уметь! И раз! Двадцать подтягиваний на турнике. И два! Пятьдесят отжиманий на кулаках. И три! Резкий левый хук, стремительный правый. Драться отец умел. Хуже того – любил. КМС по боксу, дважды взял первенство по стране. Главное, Рома, сердцем не стареть. Не жевать сопли. А если бьешь, то бей. Аккуратно бей. Насмерть. Эти правила отец исполнял безукоризненно. Бил сильно и точно. И всегда был аккуратным. Вот пиджак снял, дорогущий же, сшитый на заказ, чтобы с иголочки. Снял, на спинку стула повесил. Белоснежные рукава у сорочки закатал, размялся чутка. И пошел бить. Насмерть.
Мама лежала на полу. Она стала еще одним предметом, проявившимся сквозь обморочный туман в голове Рэма. Именно что предметом. С силой отброшенным к стене, лопнувшим от удара, а после медленно сползшим на пол, оставив за собой багровый след. У нее была разбита голова. Рэм не мог разглядеть этого точно, но увидел, как волосы – пышные, непослушные, выкрашенные в холодный блонд – стали вдруг темными и свалявшимися. Сырыми на вид. Сразу вспомнилось, как они пахли шампунем, и лаком, и чуть духами – что-то цитрусовое, но цветочное. Этот запах тянулся за мамой, предвещал ее и провожал.
А теперь в комнате пахло железом, болью и страхом. А сильнее всего – полынью, но ее Рэм из последних сил отметал, не давая себе окончательно провалиться в омут.
Потому приходилось смотреть. На распухшее мамино лицо: вместо носа кровавое месиво, губы разбиты, один глаз заплыл фиолетовым с черным, так что самого глаза-то не осталось. Домашний халатик – гладкая синтетика в золотистый узор – распахнулся, а под ним избитое тело, измученное, истерзанное. Одной рукой мама все пыталась прикрыться, а вторая, кажется перебитая, оставалась лежать на полу, пугающе неживая, будто пластиковая, только в пальцах золотой крестик на порванной цепочке.
И вот от этого крестика, бесполезного огрызка металла, Рэм окончательно поплыл. Он больше не чувствовал тела, не слышал, как надрывается кукушка, отсчитывая десятый ку-ку. Он даже маму не видел больше, только ее пальцы с запекшейся кровью под ногтями и кусочек золота на лопнувшей цепочке. Но мама его заметила.
Отец как раз наклонился к ней, схватил за грудки, под треск лопающегося халата приподнял с пола, замахнулся, чтобы ударить еще раз. Рэм просто не успевал его остановить. Но мама дернулась, подалась к двери, вцепилась в Рэма уцелевшим глазом.
Полынь хлынула из нее потоком боли, отчаяния и вины. Реальный мир отстал на долю мгновения, и Рэм увидел, как натренированный отцовский кулак впечатывается в мамин висок. Туда, где начинались ее роскошные платиновые локоны, туда, где на их месте тяжелел кровью влажный колтун. И тут же хруст. Мерзкий полый хруст. Так лопается куриная косточка. Ломается в сильных пальцах. И ничего не происходит – несущийся вперед локомотив жизни не слетает с рельсов, не валится под откос, сминая все на своем пути.
Просто косточка, просто лопнула. Височная. Мамина.
И мама становится тяжелой настолько, что выскальзывает из отцовских пальцев, сползает по стене, опускает подбородок на грудь. Из уха вытекает темная, почти черная струйка, смешивается с остальными, теряется в них.
Ничего. Ничего. Ерунда, Ром, и это пройдет. Все пройдет. Видишь, полынная горечь может быть сладкой, пьянящей, плотной. Она не дает тебе упасть, не дает подавиться криком, захлебнуться рвотой, обделаться в штаны. Смотри. У тебя есть одно последнее мгновение, наносекунда, микромиг пожить в мире, где все это еще не произошло. Стой себе, смотри, как выпадает из обмякшей маминой ладони крестик. Можешь перекреститься разок. А отец пока делает размах, примеряется, куда бы опустить кулак, как провернуть все аккуратно. И насмерть. У него получится, ты же видел.
Кто-то шептал это прямо в ухо, шершавым, щекотным шепотом, чуть слышно, но оглушительно. То ли сама полынь, то ли сам Рэм, то ли кто-то еще, могучий и злой, само мироздание, например. Или равнодушный Бог, которого нет.
Только Рэм не стал слушать. Он прыгнул вперед. Вырываясь из полыни, как из липкой паутины. Оставляя в ней кровоточащие куски. Прыгнул, не разбирая направления, не рассчитывая силу. Весом измученного тела, набором костей в мешке из кожи, неравномерно покрытой волосами и шрамами. Прыгнул, потому что не мог больше стоять и смотреть.
Он столкнулся с чем-то обжигающим, твердым, потным и, кажется, живым. По инерции свалил это и полетел дальше. Так и не открыл зажмуренных глаз. А потом что-то затормозило падение, встало на пути, изменило траекторию. И Рэм наконец достиг пола. Почти дна, только между ним и паркетом осталась прослойка чего-то мягкого, влажного, еще обжигающего, но, кажется, не-жи-во-го.
Остро пахло мужским потом. Своим и чужим. Пахло кровью. Пахло знакомым мужским одеколоном, блевать от этого запаха хотелось сильнее, чем от любого другого. Даже полынного. Рэм все не мог заставить себя открыть глаза. Он чувствовал, что под ним промокшая, но все равно дорогая на ощупь ткань. А под ней чье-то тело. И что тело это не двигается. Совсем. Хотя должно. Подниматься на вдохе, опускаться на выдохе. Если оно еще может дышать.
Тело не могло. И чуть заметно остывало. И пахло оно отцом. И на ощупь было отцом. И было оно отцом. Только этого Рэм не мог признать, потому и лежал, закрыв глаза, надеясь, что все само закончится.
Было тихо, даже кукушка перестала надрываться на кухне. Ни стона, ни шороха. Тишина, как и положено в приличной квартире за полночь. Соседи могут быть довольны, а что труп за стенкой, так не пахнет же пока. Вот и здорово.
Думать так об отце было странно. Но почти не страшно. Рэм вообще не ощущал страха. И не мог вспомнить, когда в последний раз такое бывало. Не бояться рядом с отцом. Не заикаться, не теряться, не съеживаться, ожидая окрика, подзатыльника, угрозы и тычка. Не пугаясь заранее, что сейчас отец встанет, схватит маму за руку и уведет в комнату. А потом она будет плакать в ванной и две недели ходить в солнечных очках. В январе.
Вспоминал-вспоминал и не смог вспомнить.
Рэму даже смешно стало. Столько лет страха, а вышло так просто. На двенадцатом ку-ку чертовой кукушки.
«Не черти», – попросила мама.
Не попросила, конечно. Даже звука не издала. Даже хрипа.
Вот тогда Рэм вскочил. С отвращением оттолкнул от себя мертвое тело, мельком глянул на лужу, натекшую под отцом, и бросился к телу, в котором жизнь еще осталась. На самом донышке.
Мама тонула в крови. Она текла отовсюду. Казалось невозможным, что в человеческом теле ее так много. Столько, чтобы течь и течь. Не переставая, не прерывая струек, собираясь в выемках, вмятинах и сгибах.
Рэм наклонился, но дотронуться не смог. Поскальзываясь, побежал обратно в прихожую. Схватил телефон. Пальцы не дрожали, ноги не подкашивались. Тело вело себя послушно и разумно.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: