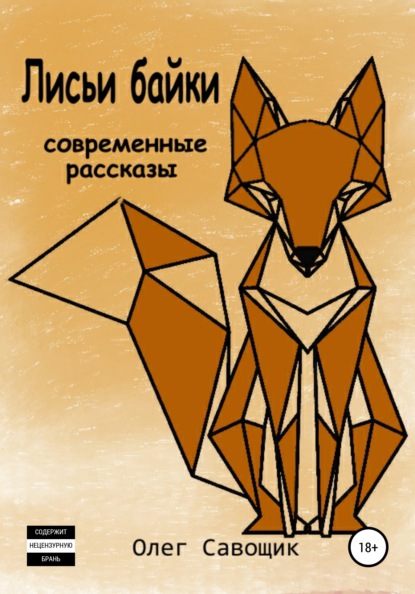По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Лисьи байки: современные рассказы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Это жена моя, – бросил Барышев, не оборачиваясь, и отдал Павлу Андреевичу свой цилиндр. – Пристройте, дружочек. И просушить надо бы, на улице морось.
– Я прикажу! А пока извольте осмотреть дом. Скромненько, конечно, но чем Бог послал.
Поэт увлек гостя за собой. За ними безмолвной тенью шмыгнула молчаливая жена Барышева.
– А это гордость моя и отрада! – говорил Павел Андреевич, показывая шкафы из красного дерева. – Я эту библиотеку собирать еще в студенческие годы начал. Тут и наши мастера, и европейские. Ваши книги, конечно же, вот они здесь!
– Дорогой, а чем нас порадует ужин? – спросил Барышев и зевнул.
***
– Литература – это всегда о наболевшем, – говорил он часом позже, ковыряясь в зубах вилочкой для оливок. – Хорошая проза, она о судьбах людских, и никак иначе. А наболевшего у людей, сами понимаете, куры не клевали.
– А поэзия, поэзия как же? – Павел Андреевич заглядывал мэтру в рот, боясь упустить хоть слово.
– Так вы ж поэт, голубчик, вам лучше знать! – хохотнул писатель, отчего стул под ним скрипнул. – О душе, думается мне. О чувствах и о душе.
– Вот как вы верно излагаете! Как же зрите в суть!
– Опыт, голубчик. Опыт!
Губы Барышева блестели, будто смазанные салом, а глазки бегали по столу, и, когда останавливались, пухлая рука тянулась, чтобы закинуть в рот очередное угощение. Елизавета Васильевна отвернулась.
Жена писателя, которую тот сухо представил перед трапезой, едва обмолвилась парой фраз за ужин и почти ничего не съела.
– Как вам жаркое? – спрашивала Лиза в попытке разговорить женщину.
– Благодарю, хорошо.
Хозяйка решила не сдаваться, поймать хотя бы взгляд серых глаз.
– Слышала, намедни вы с супругом посетили Европу? Удачно ли прошла поездка?
– Спасибо, удачно.
Лиза хотела было отругать себя – что за хозяйка такая, которая не может гостя развеселить? Но, по правде, в тот момент ее заботило иное.
Аксинья весь вечер была сама не своя. Едва завидев гостей, побелела кожей, а следом краской залилась, будто вся кровь в одночасье к лицу прилила. Когда блюда подносила, прятала голову в плечи и норовила поскорее выбежать из столовой.
Никогда ранее не замечалось за ней такой рассеянности: то подливой на скатерть капнет, то приборы перепутает.
Мужчины за беседой внимания на прислугу не обращали, а вот жена писателя, казалось, признала девушку. Замерла на миг, глаза распахнувши, и больше головы не поднимала. Сидела, в тарелку уткнувшись да вилкой для вида ковыряясь.
Лиза ждала конца ужина, словно на разогретом стуле сидячи.
– А пройдемте в мой кабинет, – предложил Павел Андреевич. – Аксинья! Будь добра подать кофе! У меня припрятан коньячок по такому случаю чудесной выдержки. Кавказский! А?
– Предпочитаю французский, – крякнул Барышев и нехотя поднялся.
– Мне нездоровится, – тихо сказала его жена. – Мы можем поехать домой?
Писатель закатил глаза.
– Бабы, – пробубнил он. – Моя супруга действительно нездорова. Прошу простить.
– Аксинья! Не надо кофе. Я провожу вас до экипажа, Петр Сергеевич. Папироску, папироску-то раскурим напоследок? Ах, до чего же жалко…
Когда гости уехали, Павел Андреевич еще долго не мог унять возбуждения. Метался по комнате, рисуя в фантазиях картины своей будущей выгоды от удачного знакомства.
– Заручиться покровительством Барышева – и можно двери издательства ногой открывать! Вот тогда-то заживем! – говорил он, пригубив коньяку. – Нет, насколько же разумный человек, этот Петр Сергеевич. Как мыслит он в литературе! Старую школу сразу видно, молодняку неровня.
Лиза улыбалась. Радость мужа грела душу, но в голове намертво засели мысли о поведении прислуги.
– Ложись без меня, родная, – сказал Павел Андреевич. – Я сегодня поработаю у себя. Вдохновенье, знаешь ли, нельзя упускать!
Дождавшись, когда супруг уйдет в кабинет, Лиза отправилась на кухню. Раньше прислуга спала здесь же, в тесной каморке по соседству с водосточными трубами. Но жена поэта настояла, и домработнице выделили комнатушку у чердака, сухую, чистую и даже с кроватью.
Аксинья рыдала бесшумно, глотала звуки вместе со слезами. Она не заметила Лизу, склонившись над бадьей, и, когда тонкие пальцы коснулись мелко подрагивающего плеча, чуть не вывернула грязную посуду на пол.
– Напугали вы меня, барыня!
Елизавета Васильевна всмотрелась в заплаканное лицо.
– Какое горе с вами приключилось, милая?
Аксинья не ответила, потупила взор.
– Сегодня мне показалось, что вы признали наших гостей.
– Как не признать, – всхлипнула прислуга. – Много годов тому я работала у господ Барышевых.
– Вот как? Уж не связано ли ваше расстройство с этим обстоятельством?
Аксинья зажмурилась, но слезы все равно находили себе дорогу, оставляли мокрые следы на раскрасневшихся щеках. Руки в серых хлопьях мыльной пены сжимали тарелку с такой силой, что тонкий фарфор чуть было не треснул.
– То дело былое.
– Они вас обижали? Я хочу знать.
– Барыня, родненькая, Христом Богом прошу, не спрашивайте, не рвите душу!
Лиза поджала губы.
– Разве я обидела вас хоть делом, хоть словом? Разве не я дала вам кров и работу? Уж не откажите в чести отвечать, когда вас спрашивают.
Аксинья всхлипнула громче, норовя разрыдаться во весь голос, но Лиза ее опередила. Подошла, прижала к себе, лицом влажным и сопливым к тонкой ткани французской блузы, к груди, где яростно стучалось сердце. Недомытая тарелка измазала дорогую юбку, грязная пена оставила разводы на редком цвете слоновой кости.
Лиза гладила голову несчастной и терпеливо ждала.
Другие электронные книги автора Олег Савощик
Другие аудиокниги автора Олег Савощик
Этажи




 0
0