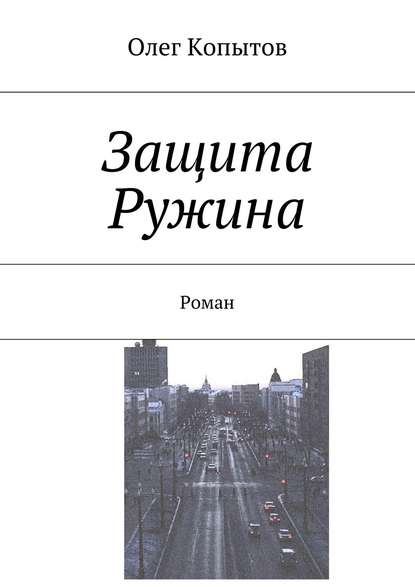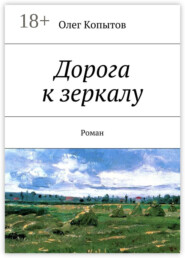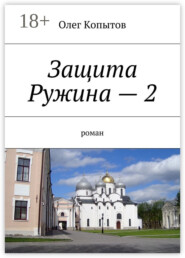По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Защита Ружина. Роман
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Защита Ружина. Роман
Олег Копытов
Талантливый молодой преподаватель и ученый за 4 месяца написал кандидатскую диссертацию… Но 10 лет не мог ее защитить. В стране – «проклятые девяностые»… За 10 лет и во внутреннем мире героя происходит немало изменений. Останется ли он верен себе? И защита ли это, на самом деле, диссертации? Или чего-то большего?
Защита Ружина
Роман
Олег Копытов
© Олег Копытов, 2016
ISBN 978-5-4483-3805-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Глава первая
1
Самолет летит по маршруту Этот город – Красноярск – Санкт-Петербург. Самолет – ИЛ-86. Это хорошо. Это надежный самолет. В последнее время стали часто рассказывать по радио, телевидению и в газетах, как падают самолеты. Я стал бояться летать…
Неделю назад мы шли с женой из театра мимо городских прудов, мы редко гуляем вдвоем, в Этом городе наша семья живет третий год, а в театр мы с женой пошли всего во второй раз, – неделю назад мы шли с женой из театра мимо городских прудов, проснулось что-то позабытое, как я за ней ухаживал, мы долго гуляли по Москве, я был в ударе, плел всякую чушь так вдохновенно, так красиво, так умно, мог полчаса рассуждать на тему, почему именно роза зовется царицей цветов, потом остановиться возле цветочного киоска и сказать, выбирай любую, я плел всякую чушь так вдохновенно, так красиво, так умно, что она непонятно зачем вышла за меня замуж… мы проходили мимо второго пруда, заброшенного, неухоженного, но за ним чернел пригорок и на нем березы, небо было синим, фонари желтыми, я сказал, что очень боюсь летать на самолетах, поэтому лучше бы мне не дали эту командировку, ведь так скользко всё сейчас, так бедно, так нищенски живет всё и вся, нужна ли мне эта командировка, пилоты месяцами зарплату не получают, летать ненавидят, упадем. Она завела куда-то поглубже в себя ту девушку, за которой я когда-то ухаживал, заперла её на ключ, снова стала женщиной, у которой едва выжил после затяжной болезни сын, у которой грошовая нелюбимая работа и странный муж – всё суетится, куда-то мчится или сидит сутками за столом, пишет, стучит на машинке, выходит на работу за пять минут до пары, бежит, как студент, к своим студентам… говорят, они его любят, он мягкий и интересный… часто возвращается со своих пар много позже их окончания и не всегда трезвый… и со своих шабашек возвращается не всегда трезвый… защищаться ему надо, защищаться, вся его суета оттого, что нет у этого кораблика чего-то тяжелого в трюмах, вот и носит кораблик по волнам, кидает влево, вправо, вверх-вниз, защищаться ему надо, защищаться.
– Да, брось ты! Что раньше самолеты не падали? Ты же, сам рассказывал, пол-Союза облетал. Тебе нравилось.
– Достань снотворного. Без снотворного не полечу.
– Брось ерунду говорить! Где я тебе достану?!
Когда сидишь внутри «ИЛа восемьдесят шестого» в полете, ощущения, что ты внутри летающего казенного дома. Неуютно здесь. Слишком много пустого пространства. Шумно. Потолки высокие. Страшно смотреть на тонкие крылья за иллюминаторами. Как такие тонкие алюминиевые листы держат сию махину? Крылья покачиваются. Вот-вот оторвутся… Четыре часа. Что делать четыре часа, когда всё время думаешь о смерти?
На коленях лежит «Идеографическая грамматика». Народу в самолете мало. Не то сейчас время, чтобы летать. Только что на кафедре отпраздновали окончание очередного учебного года. Вспоминали, как ещё пару лет назад ничего из продуктов нельзя было купить без талонов. Радовались, как дети, что это прошло. Пили «довоенный» «Рислинг». На кафедре, кроме меня, никто не курит. Я выходил покурить на улицу, смотрел с крыльца в сторону Центральной улицы и думал, у кого одолжить тысяч двадцать. Опять у Степки? Какой папа Карло, каким топором вырубил так грубо его лицо, его фигуру? Он отнюдь не глуп в рамках того скудного общения, что отпустила ему жизнь, но студенты говорят, что он ведет свои пары так же грубо и неотесанно, какое лицо носит. Болотная провинция. Я тоже вышел из неё и в неё вернулся, я не остался в Москве после университета, хотя была куча возможностей, но я прикоснулся… к чему? А черт его знает. На самом деле московские профессора – отнюдь не небожители, отнюдь не титаны, – обычные бабушки и пожилые дядьки: синяя кофта Ёлкиной или скромное пальто В.А., такие носили в конце шестидесятых директора школ, пигментные пятна на руках Михаила Викторовича Панова, отставшая кожица на уголке портфеля Милославского… ах, да «Паркер» Рождественского, английский твидовый костюм, походка лорда, который в прошлой жизни был аистом… «Нет, пересдать можно только с разрешения завкафедрой. Вы бегите, бегите быстро, он только что пошел к лифту, улетает в Оксфорд на месяц, не стойте, бегите…» Я бегу, узким клинком врезаюсь в закрывающуюся дверь, ору так, что субтильные мальчик и девочка, наметанным глазом – истфак, второй курс, – попутчики по спуску с восьмого этажа на первый, прижимаются к пластиковой стенке лифта худыми спинами, ору, глядя прямо в глаза, стою, как сочный лист перед высокой травой: «Юрий Владимирович, разрешите обратиться! – Хм, обращайтесь… – Юрий Владимирович, я слушал ваши лекции два года назад, а потом после третьего курса пришлось сходить в армию. Но я готов. Я помню всё. Там Чертанский принимает. Без вашего письменного разрешения, говорит, нельзя». Двери лифта открываются. Мальчик и девочка убегают поспешно, словно стали свидетелями чего-то взрослого, какого-то взрослого интимного процесса. Рождественский идет по вестибюлю, по «Большому сачку» как английский лорд, в прошлой жизни бывший аистом, в левой руке шикарная папка натуральной кожи, импортная, на ней белый вощеный лист, в правой руке – перо «Паркер», для начала восьмидесятых годов – это знак, отличающий олимпийского бога от черномазых илотов, Рождественский пишет: «Александр Иванович, прошу принять и по возможности зачесть». Размашисто подписывается. Сачки с «Большого сачка» провожают нас, как зрители первого ряда актеров в длинной, через всю сцену мизансцене. За два дня я прочитал конспекты лекций Рождественского и пару учебников. Но мог бы этого не делать. Когда Чертанский увидел мою ксиву, он непроизвольно утвердительно замотал головой, очень легко, незаметно почти, но я видел… Получить «отлично» у Чертанского было невозможно. Я получил…
К чему я прикоснулся там, в Москве? Не знаю. И коллеги по кафедре в Этом городе тоже не знают, к чему именно когда-то прикоснулся Ружин, но они знают, точно, твердо знают, что прикоснулся. А им, при всем том, что они носят такие же кофты, как у Ёлкиной, у самых старых из здешних факультетских преподов, как у Панова, на руках точно так же расползаются пигментные пятна, но в отличие от Панова, молодыми эти руки никогда не жали руки Маяковского; у проректора по науке пединститута Этого города – жуткая противоположность замшелому коммуняке ректору, – у его импозантного зама, у проректора по науке, он спит и видит себя в американской высшей школе менеджмента, говорят, тоже есть «Паркер», – но никто из них не прикоснулся и никогда не прикоснется к тому, к чему повезло прикоснуться мне. К чему именно?..
Как-то золотой московской осенью мне смертельно захотелось выпить. Я обнаружил у себя какие-то истершиеся червонцы, но не нашел никого из испытанных бойцов. Отряд разбрелся кто куда. В «Ленинку», «Горьковку», к троюродным московским тетушкам, к приторно пахнущим московским дружкам и подружкам. Я поставил семисотграммовую бутылку «Лимонной» в тумбочку и пошел бродить по общежитию. Никого не нашел. Вернее, попалась на пути только Ева Иванскайте. По виду – обычная полнеющая русская молодая особа короткой стрижки и весьма неопределенных лет и занятий. Но я приказал себе не пить в одиночку. Я держался очень долго, много лет от искуса пить одному, захлопнув все крышки, все люки, опустившись на самое дно омута… Я не пил один, и мы сели в моей комнате пить с Евой Иванскайте. Водка кончилась быстро. Приятная тупость поселилась мягким рыжим котом в мозгах, свернулась клубком в моей уютной голове. Теперь хотелось одного: поставить на тяжеленький плоский магнитофончик «Электроника-305» кассету с Deep Purple, The Book of Taliesin или кассету с ранним Pink Floyd, прикрыть глаза и о чем-нибудь помечтать – цветно, крылато, без якорей и тормозов…
– Спасибо, Ева, за компанию. Пока!
– Как! А…
– Не могу.
– Почему?
– А у тебя… У тебя изо рта плохо пахнет.
– Ну, ты и сволочь!.. Да я… Да меня пол-Вильнюса пере…..
– Вот езжай в свой Вильнюс, там и …..!
Ева, конечно, поведала об этом в своей «нехорошей» 806-й, нажаловалась на Ружина. Ружин вошел анналы факультетских легенд. А это не так уж и мало. Анекдот – тоже искусство. Скворцов учился на филфаке четырнадцать лет, с перерывом на тюрьму и «химию», за «недонесение», за то, что не настучал на соседа-наркомана – он ни в какие анналы не попал. Просто, без искусства жил. Просто, без искусства страдал. Кому это интересно?.. Может быть, меня тихо, но твердо не любят на кафедре за то, что они живут просто, без искусства и будут так жить до самой смерти?..
Конечно, меня не любят и за идеографическую грамматику и за семантический синтаксис. Для них синтаксис – это раздел школьной грамматики, для меня – глава поэмы о любви и ненависти слов друг к другу. Про поэму не я выдумал – Андрей Белый (Белый А. Поэма слова. – Петербург, 1922). Семантический синтаксис – сын семиотики. Из всей обширной группы объектов семиотики наибольшая общность обнаруживается между языком и художественной литературой, то есть искусством, использующим язык и только язык в качестве своего средства. Из безбрежного моря объектов этого мира наибольшее сходство обнаруживается между человеком и его языком…
Для меня любой косноязычный человек некрасив не только внутренне – обязательно внешне. В моей математике между ментальным и физическим телом не просто знак приблизительного равенства – абсолютного тождества… Когда-то это было очевидной нормой. Моисей был страшно косноязычен. И урод, каких поискать. Злой был дядька. Морил своих евреев голодом. Наказывал за малейшие провинности. Про сорок лет хождения по пустыне источники врут. Точнее – здесь досадное недоразумение при переводе древнего текста. На самом деле он вел свою толпу через перешеек между Африкой и Азией не сорок лет, а от силы полтора месяца, дней сорок. Но достал всех крепко, из египетского рабства бедные евреи попали в жалящее тучей комаров нуднее нудного фарисейство. Туда нельзя, сюда нельзя, черно-бело не берите, да и нет не говорите… В качестве компенсации за долготерпение, евреи придумали миф, что они самые умные. С тех пор любой еврей считает себя самым умным. Ерунда, что евреи жадные или скупые. Скупы французы, жадны датчане, евреи просто считают себя самыми умными… А это неправда. Евреям обидно. Похвастаться им больше нечем. Оттого их знаменитая грусть… О Господи, кажется приземляемся! Внизу – зеленое море сосновых лесов под Красноярском. Чего только не придумаешь, какую несусветную чушь не станешь крутить в своей башке, лишь бы только отделаться от мыслей о смерти…
2
Первые два года в университете, наверное, заложили хребет моей образованности, но были довольно скучными. Зубрежка и картошка. Вот чем были эти два года…
Я обломал зуб мудрости о гиперфонемы Панова, выучил наизусть около ста латинских пословиц (любимая: «De gustibus et coloribus non est disputantum»), в «Слове о Плъку Игореве…», правда, смог выучить только начало:
Не лепо ли ны бяшетъ, братие,начяти старыми словесы трудныхъ повестий о пълку Игореве,Игоря Святъславлича?
Начати же ся тъй песни
по былинамь сего времени,
а не по замышлению Бояню!
Боянъ бо вещий,аще кому хотяше песнь творити,то растекашется мыслию по древу,серымъ вълкомъ по земли,шизымъ орломъ подъ облакы.Помняшеть бо рече,първыхъ временъ усобице…
А вот несравненной Ёлкиной я сдавал старославянский семнадцать раз! Кажется, это был абсолютный рекорд факультета, во всяком случае, когда я приехал через год после выпуска из Атагуля на стажировку и появился в общежитии на Вернадского, меня представляли «поколению младому, незнакомому» именно таким образом: «Это тот самый чувак, который семнадцать раз сдавал старославянский Ёлкиной». Первокурсники после этих слов кончали свои щенячьи визги…
В принципе я мог бы сдать со второго раза. Сам-то считал, что достоин «старослава» с первого. Подумаешь, запнулся на творительном падеже четвертого склонения, а аорист пытался рассказать по Хабургаеву (знающие люди говорили, что сдавать Ёлкиной по Хабургаеву – всё равно, что знакомить жену с любовницей, не надев бронежилета) … Что, не хватит для зачета? – Нет, – сказала Ёлкина. – Придете в следующий раз.
Я пришел в следующий раз, ровным счетом ничего не перечитывая. У меня вообще не было учебника Ёлкиной, только куски чужих конспектов. «Вы решили взять меня измором? – А насколько нам пригодится такое железобетонное знание мертвого языка, если мы, например, будет преподавать в школе? – Э-э, не скажите, молодой человек, – Ёлкина показала пальцем в ту сторону небесных сфер, где, наверное, были прописаны с 988 года Ярила с Велесом. – Сорок лет ко мне приходят бывшие студенты и благодарят, потому что они, прослушав мой курс, сразу могут ответить ученикам, почему мы говорим: „здравоохранение“, а не „здоровоохрана“ и почему „хочу“, но „хотим“! – Понятно, – грустно кивал я и путался в парадигме склонения существительных на «-а». Нина Максимовна мило улыбалась, спрашивала, а правда ли, что в Атагуле вообще нет зимы? – Нет, – говорил я, – зима есть, бывают морозы до минус десяти, но зима очень маленькая, с середины декабря по середину февраля, а то вообще до Нового года может не быть снега, в обед 31 декабря, был такой год, все ходили под солнцем по чистому асфальту в пиджаках и кофтах, первый снег пошел в половине двенадцатого ночи. – Хорошо, – мечтательно произносила Ёлкина. – Конечно, хорошо, – говорил я и добавлял: – Приезжайте! – Обязательно приеду…
Потом я ходил к ней домой. Я пошел на принцип. Ничего не читал и шел, надеясь на то, что она когда-нибудь устанет и поставит мне зачет после двух-трех правильно рассказанных парадигм. Она не уставала. Ёлкина желала услышать всё, что написано в учебнике старославянского Ёлкиной. Слушала напряженно, затаив дыхание, не скрываясь, переживала. Когда я делал ошибку, она с ненаигранной, с натуральной болью восклицала: «Да не «-а» здесь окончание, не «-а», а «-у»!.. – качала головой и шла ставить чайник. Потом мы пили чай с ее очередным тортом или пирожными. Особенно ей удавались слоеные торты. Одних разновидностей «наполеона» она делала семь-восемь. Когда она служила в войну санитаркой, таскала на себе раненых из боя, видела горы трупов и поля, усеянные оторванными конечностями, ей хотелось одного – сладкого…
Когда я приехал через год после выпуска на стажировку и появился в общежитии на Вернадского, меня в некоторых комнатах (а обойти нужно было весь восьмой-девятый филфаковский этаж) иногда представляли «поколению младому, незнакомому» именно таким образом: «Это тот самый чувак, который семнадцать раз сдавал старославянский Ёлкиной»…
Сереже Скупому меня никак не нужно было представлять. Три года мы делили с ним жизнь дворников ДЭЗа в районе метро «Парк Культуры» со стороны Фрунзенской набережной и соответственно улиц имени Тимура Фрунзе, Фрунзенских Первой, Второй и Третьей…
Три университетских года одновременные с дворницкой жизнью шли в полном соответствии с геометрией Лобачевского, доказавшего, что параллельные прямые пересекаются. Никуда так стремительно я не стремился, как из квартиры-коммуналки, шабашек «на стеклах» и «на шурфах», игры на бегах, из ночных попоек, драк и примитивного флирта – в лекционные и семинарские аудитории, тишь библиотек, а из тиши библиотек, из семинарских и лекционных аудиторий – в квартиру-коммуналку на четверо хозяев, свой участок в старом дворе на Третьей Фрунзенской… Вот, как всегда без четверти восемь утра, ты выметаешь последние желтые листочки из-под бордюров, а из третьего подъезда выходит Татьяна Доронина – главреж одного из двух Московских Художественных театров, садится в белую «Волгу», как всегда здоровается первой: «Здравствуйте, Андрей! – Доброе утро!»… Но дворницкая зарплата – пшик, чуть больше стипендии, поэтому – шабашки: протирка стекол – клиника Первого меда на «Спортивной», Министерство сельского хозяйства на «Парке Культуры» и МПС на «Лермонтовской»; шурфы – о эти шурфы, изыскательские ямы под фундаментами очень старых, старых и нестарых московских домов, отрытые нами – мной, Лехой, Колей – в стольких местах Москвы, что прикалывай мы флажки к тем местам карты, где их рыли, мы рисковали бы тем, что за флажками не видно было бы карты, – благодаря вам, дорогим моим шурфам, я понял, что Москва – не город, а целая Вселенная из нескольких эпох, но двух лишь почвооснований, – на шурфах можно было срубить пять, семь, десять дворницких зарплат с одного объекта, то есть за неделю, да, тяжеловатого труда, бетон вскрываешь из подвалов ломами, ломы тупятся через два-три часа адской работы, весь дрожишь, как осиновый лист, ведь каждый твой размашистый удар встречен полным бетонным равнодушием, вскроешь бетон – все руки в кровавых мозолях, перчатки, пластырь, бинты – ерунда, не защитники, – еще не победа, еще копаешь саму яму, сам шурф лопатой со спиленным наполовину черенком, иногда до пяти метров, сверху – «культурный слой»: обломки кирпичей, мусор, шлак, корни деревьев, не продерешься, только потом песочек или суглинок, метрах на двух, редко когда на метре, затем еще замеры и собирание проб в бюксы, хотя это – самое сладкое, таких шурфов на объекте от четырех до двадцати, работка та еще, сказать по правде, одни крысы чего стоят, с ними нужно научиться жить дружно, например, на Митинском рынке, сто лет назад здесь торговали молоком, через три часа торговли, что не продали – на землю: холодильников не было, – земля на Митинском ранке пропиталась молоком на сто лет вперед, крысы на Митинском величиной с кошку, сойдутся штук пятнадцать из разных углов подвала какого-нибудь бывшего мясного ларька, сейчас похожего на бункер Кенигсбергских укреплений вермахта весной сорок пятого, смотрят крысокошки на тебя так выжидающе, ну что, чувак, смерти ищешь, или как? – Или как, – сквозь зубы отвечаешь, и бросаешь в дальний темный угол свой обед им на поживу… После каждого объекта, по закону Архимеда, чтобы вернуться с такими деньгами, вернее, без денег, ну в общем, в некое состояние жизненного равновесия, а главное – в аудитории университета, нужны были бега – метро «Беговая», настоящий игрок ставит в тройном экспрессе и знает, что на Полишкина, пи……, ставить нельзя ни в коем случае, даже если он едет на фаворите с резвостью космической ракеты: обязательно проскачку сделает, аль еще как подоср.., вот на Аллу Ивановну всегда можно поставить, но всё равно в конце всё проиграешь, – ах как славно, проигравшись в прах, до последних пяти копеек на метро, доехать с одной пересадкой до «Парка Культуры», дойти до дома – ровно одна сигарета, нашарить в тумбочке рублей сто заначки, начать пить втроем, окончить целым табором, ночью подраться с таксистами-спиртовозами, потом кого-то снять на Садовом кольце возле любимого книжного «Прогресс», сейчас беспробудно спящего, проснувшись, гнать эту лимитчицу взашей, без малейшего шанса на вечерний звонок и последующую тусовку, а тем более сиюминутный душ и пряник, швырнуть ей факинг юбку, прикрой срам! – две сигареты «Явы явской» и три рубля на тачку – прощай, как там у Палладия Афинского? – «Женщина, в общем-то, зло // Правда, хорошей бывает // Или на ложе любви, // Или на смертном одре…»
Сережа Скупой заканчивал аспирантуру и по-прежнему жил на истоке Комсомольского проспекта, хотя за то время, пока меня в Москве не было, успел жениться, прописаться к жене, правда, в коммуналку, далековато, правда, от цивилизации, от метро «Сокольники» еще полчаса на трамвае пилить, успел и развестись… В ДЭЗе давно не работал – платил и, по его словам, немало за то, что продолжал числиться по метельному ведомству и жить на служебной жилплощади… Скупой, кстати, это не прозвище, а натуральная фамилия, как жаловался Сережа, весьма нерачительная: он никому не мог отказать в просьбе занять двадцать-тридцать-сто до получки, чем все его знакомые всю жизнь успешно пользовались… По этой причине, а также по той, что Сережа был сибарит, жить любил изящно, ему бы лордом Байроном родиться, иль хотя бы Шелли, зарабатывать приходилось Сереже много. Он окончил наш филфак, отделение «Русский как иностранный», хорошее, хитрое отделение, академических знаний оно давало почти столь много и основательно, как и фундаментальное, русское отделение, но, как и на романо-германском, здесь прилично изучали два языка – Сережа знал английский и французский…
Кормил меня Сережа тушеными овощами, долго ждали, пока приготовленные помидоры-баклажаны-перцы охладятся… Я сильно подозревал, что мяса у Сережи в доме давно не водилось, но вот так он устроен: тушеные овощи горячими не едят…
Наконец, Сергей поставил на стол тарелки с ужином и… бутылку «Камю» семилетней выдержки… Для осени 1991-го года, когда овальные сигареты без фильтра типа «Прима» – паслен с соломой пополам, продавались по карточкам, когда пустыми были полки даже в магазинах «Березка» на Киевской и на Сиреневом бульваре, не говоря о заштатных «Кулинариях» и продмагах, когда московские старухи жили тем, что выстраивались по длине всей улицы Горького-Тверской, продавая те же сигареты, которые час назад купили на противоположной стороне на пятьдесят копеек дешевле у такой же бесконечной вереницы московских стариков, когда бутылку водки подозрительного осетинского разлива можно было купить только у спиртоносов, по цене авиабилета из Москвы до Киева, который, впрочем, прибрести по своей цене было невозможно, – это было так удивительно, словно бы в дверь твоей квартиры на окраине Магадана, где ты уж год сидел без копейки денег и надежд на лучшее, злой, голодный и небритый, позвонили, ты открыл, а на пороге стоял Дэвид Бэкхем в футболке «Макдоналдса» и спрашивал: «Пиццу заказывали?»
– Это для начала, – сказал Сережа и сделал паузу. – Это от Коли Удовиченко. Он, как понимаешь, человек занятой, бизнесмен, не чета нам, но прослышал, что ты приехал, вот просил передать по старой дружбе… Ничего, что я на стол поставил?..
– «Для начала»? А что дальше-то будет? Шерон Стоун с воплями: «Андрюша, я ваша на веки»?
– Ну, Шерон Стоун пока не обещаю… Ты ешь, ешь, остынет, – плоско пошутил Сергей, но я принялся откупоривать незнакомую до двадцать шестого года моей отнюдь не скучной жизни бутылку, потом выпили по рюмке, с таким чувством, наверное, Колумб бродил по западноатлантическим островам…
Если бы Сережа Скупой не был так безапелляционно уверен во всем, что бы он ни говорил, он был бы приятным собеседником. Но потерпеть час-полтора его можно, мало того, за это время можно, фильтруя его выводы, конечно, впитать кое-какую полезную информацию. За те три года, когда мы жили в одном подъезде служебного дэзовского дома, я узнал суть философии Герберта Честертона, не прочитав еще его книги, причем в весьма оригинальной формулировке: «Нет ничего хуже служить интеллекту, потому что пока одни служат интеллекту, другие им пользуются». В этой формуле «интеллект» был некоей переменной, допускающей подстановку «культуры» вообще, «искусства» в частности, «науки» и «умения жить». А идею «Заката Европы» Шпенглера я уяснил от Сергея Скупого на вполне доходчивом примере: вот сидит секретарша ректора МГУ – в смысле Молдавского государственного университета (Сережа был родом из Кишинева) – вокруг ума палата, не ей добытая, и красная ковровая дорожка, не ей сотканная, но она-то думает, что во всем, что ее окружает, есть некая ею прибавленная стоимость, потому что без ее техницизма невозможна никакая власть в университете, потому что вся современная цивилизация – это уже не ума палата и не умение ткать ковры, – это лишь ленточный червь власти: президент академии наук – министр образования – класс ректората – класс секретарш ректоров. Всё! На самом деле эта вроде бы безобидная секретарша, перед которой склоняют головы профессора, заглянувшие в микромир и по ту сторону добра и зла, перед которой они безотчетно робеют, – эта секретарша скрывает в себе центр подмены власти культуры на власть воли к власти… Сам текст «Заката Европы» я прочитал через несколько лет после Сережиного объяснения (… Новосибирск: Наука, 1993)…
Олег Копытов
Талантливый молодой преподаватель и ученый за 4 месяца написал кандидатскую диссертацию… Но 10 лет не мог ее защитить. В стране – «проклятые девяностые»… За 10 лет и во внутреннем мире героя происходит немало изменений. Останется ли он верен себе? И защита ли это, на самом деле, диссертации? Или чего-то большего?
Защита Ружина
Роман
Олег Копытов
© Олег Копытов, 2016
ISBN 978-5-4483-3805-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Глава первая
1
Самолет летит по маршруту Этот город – Красноярск – Санкт-Петербург. Самолет – ИЛ-86. Это хорошо. Это надежный самолет. В последнее время стали часто рассказывать по радио, телевидению и в газетах, как падают самолеты. Я стал бояться летать…
Неделю назад мы шли с женой из театра мимо городских прудов, мы редко гуляем вдвоем, в Этом городе наша семья живет третий год, а в театр мы с женой пошли всего во второй раз, – неделю назад мы шли с женой из театра мимо городских прудов, проснулось что-то позабытое, как я за ней ухаживал, мы долго гуляли по Москве, я был в ударе, плел всякую чушь так вдохновенно, так красиво, так умно, мог полчаса рассуждать на тему, почему именно роза зовется царицей цветов, потом остановиться возле цветочного киоска и сказать, выбирай любую, я плел всякую чушь так вдохновенно, так красиво, так умно, что она непонятно зачем вышла за меня замуж… мы проходили мимо второго пруда, заброшенного, неухоженного, но за ним чернел пригорок и на нем березы, небо было синим, фонари желтыми, я сказал, что очень боюсь летать на самолетах, поэтому лучше бы мне не дали эту командировку, ведь так скользко всё сейчас, так бедно, так нищенски живет всё и вся, нужна ли мне эта командировка, пилоты месяцами зарплату не получают, летать ненавидят, упадем. Она завела куда-то поглубже в себя ту девушку, за которой я когда-то ухаживал, заперла её на ключ, снова стала женщиной, у которой едва выжил после затяжной болезни сын, у которой грошовая нелюбимая работа и странный муж – всё суетится, куда-то мчится или сидит сутками за столом, пишет, стучит на машинке, выходит на работу за пять минут до пары, бежит, как студент, к своим студентам… говорят, они его любят, он мягкий и интересный… часто возвращается со своих пар много позже их окончания и не всегда трезвый… и со своих шабашек возвращается не всегда трезвый… защищаться ему надо, защищаться, вся его суета оттого, что нет у этого кораблика чего-то тяжелого в трюмах, вот и носит кораблик по волнам, кидает влево, вправо, вверх-вниз, защищаться ему надо, защищаться.
– Да, брось ты! Что раньше самолеты не падали? Ты же, сам рассказывал, пол-Союза облетал. Тебе нравилось.
– Достань снотворного. Без снотворного не полечу.
– Брось ерунду говорить! Где я тебе достану?!
Когда сидишь внутри «ИЛа восемьдесят шестого» в полете, ощущения, что ты внутри летающего казенного дома. Неуютно здесь. Слишком много пустого пространства. Шумно. Потолки высокие. Страшно смотреть на тонкие крылья за иллюминаторами. Как такие тонкие алюминиевые листы держат сию махину? Крылья покачиваются. Вот-вот оторвутся… Четыре часа. Что делать четыре часа, когда всё время думаешь о смерти?
На коленях лежит «Идеографическая грамматика». Народу в самолете мало. Не то сейчас время, чтобы летать. Только что на кафедре отпраздновали окончание очередного учебного года. Вспоминали, как ещё пару лет назад ничего из продуктов нельзя было купить без талонов. Радовались, как дети, что это прошло. Пили «довоенный» «Рислинг». На кафедре, кроме меня, никто не курит. Я выходил покурить на улицу, смотрел с крыльца в сторону Центральной улицы и думал, у кого одолжить тысяч двадцать. Опять у Степки? Какой папа Карло, каким топором вырубил так грубо его лицо, его фигуру? Он отнюдь не глуп в рамках того скудного общения, что отпустила ему жизнь, но студенты говорят, что он ведет свои пары так же грубо и неотесанно, какое лицо носит. Болотная провинция. Я тоже вышел из неё и в неё вернулся, я не остался в Москве после университета, хотя была куча возможностей, но я прикоснулся… к чему? А черт его знает. На самом деле московские профессора – отнюдь не небожители, отнюдь не титаны, – обычные бабушки и пожилые дядьки: синяя кофта Ёлкиной или скромное пальто В.А., такие носили в конце шестидесятых директора школ, пигментные пятна на руках Михаила Викторовича Панова, отставшая кожица на уголке портфеля Милославского… ах, да «Паркер» Рождественского, английский твидовый костюм, походка лорда, который в прошлой жизни был аистом… «Нет, пересдать можно только с разрешения завкафедрой. Вы бегите, бегите быстро, он только что пошел к лифту, улетает в Оксфорд на месяц, не стойте, бегите…» Я бегу, узким клинком врезаюсь в закрывающуюся дверь, ору так, что субтильные мальчик и девочка, наметанным глазом – истфак, второй курс, – попутчики по спуску с восьмого этажа на первый, прижимаются к пластиковой стенке лифта худыми спинами, ору, глядя прямо в глаза, стою, как сочный лист перед высокой травой: «Юрий Владимирович, разрешите обратиться! – Хм, обращайтесь… – Юрий Владимирович, я слушал ваши лекции два года назад, а потом после третьего курса пришлось сходить в армию. Но я готов. Я помню всё. Там Чертанский принимает. Без вашего письменного разрешения, говорит, нельзя». Двери лифта открываются. Мальчик и девочка убегают поспешно, словно стали свидетелями чего-то взрослого, какого-то взрослого интимного процесса. Рождественский идет по вестибюлю, по «Большому сачку» как английский лорд, в прошлой жизни бывший аистом, в левой руке шикарная папка натуральной кожи, импортная, на ней белый вощеный лист, в правой руке – перо «Паркер», для начала восьмидесятых годов – это знак, отличающий олимпийского бога от черномазых илотов, Рождественский пишет: «Александр Иванович, прошу принять и по возможности зачесть». Размашисто подписывается. Сачки с «Большого сачка» провожают нас, как зрители первого ряда актеров в длинной, через всю сцену мизансцене. За два дня я прочитал конспекты лекций Рождественского и пару учебников. Но мог бы этого не делать. Когда Чертанский увидел мою ксиву, он непроизвольно утвердительно замотал головой, очень легко, незаметно почти, но я видел… Получить «отлично» у Чертанского было невозможно. Я получил…
К чему я прикоснулся там, в Москве? Не знаю. И коллеги по кафедре в Этом городе тоже не знают, к чему именно когда-то прикоснулся Ружин, но они знают, точно, твердо знают, что прикоснулся. А им, при всем том, что они носят такие же кофты, как у Ёлкиной, у самых старых из здешних факультетских преподов, как у Панова, на руках точно так же расползаются пигментные пятна, но в отличие от Панова, молодыми эти руки никогда не жали руки Маяковского; у проректора по науке пединститута Этого города – жуткая противоположность замшелому коммуняке ректору, – у его импозантного зама, у проректора по науке, он спит и видит себя в американской высшей школе менеджмента, говорят, тоже есть «Паркер», – но никто из них не прикоснулся и никогда не прикоснется к тому, к чему повезло прикоснуться мне. К чему именно?..
Как-то золотой московской осенью мне смертельно захотелось выпить. Я обнаружил у себя какие-то истершиеся червонцы, но не нашел никого из испытанных бойцов. Отряд разбрелся кто куда. В «Ленинку», «Горьковку», к троюродным московским тетушкам, к приторно пахнущим московским дружкам и подружкам. Я поставил семисотграммовую бутылку «Лимонной» в тумбочку и пошел бродить по общежитию. Никого не нашел. Вернее, попалась на пути только Ева Иванскайте. По виду – обычная полнеющая русская молодая особа короткой стрижки и весьма неопределенных лет и занятий. Но я приказал себе не пить в одиночку. Я держался очень долго, много лет от искуса пить одному, захлопнув все крышки, все люки, опустившись на самое дно омута… Я не пил один, и мы сели в моей комнате пить с Евой Иванскайте. Водка кончилась быстро. Приятная тупость поселилась мягким рыжим котом в мозгах, свернулась клубком в моей уютной голове. Теперь хотелось одного: поставить на тяжеленький плоский магнитофончик «Электроника-305» кассету с Deep Purple, The Book of Taliesin или кассету с ранним Pink Floyd, прикрыть глаза и о чем-нибудь помечтать – цветно, крылато, без якорей и тормозов…
– Спасибо, Ева, за компанию. Пока!
– Как! А…
– Не могу.
– Почему?
– А у тебя… У тебя изо рта плохо пахнет.
– Ну, ты и сволочь!.. Да я… Да меня пол-Вильнюса пере…..
– Вот езжай в свой Вильнюс, там и …..!
Ева, конечно, поведала об этом в своей «нехорошей» 806-й, нажаловалась на Ружина. Ружин вошел анналы факультетских легенд. А это не так уж и мало. Анекдот – тоже искусство. Скворцов учился на филфаке четырнадцать лет, с перерывом на тюрьму и «химию», за «недонесение», за то, что не настучал на соседа-наркомана – он ни в какие анналы не попал. Просто, без искусства жил. Просто, без искусства страдал. Кому это интересно?.. Может быть, меня тихо, но твердо не любят на кафедре за то, что они живут просто, без искусства и будут так жить до самой смерти?..
Конечно, меня не любят и за идеографическую грамматику и за семантический синтаксис. Для них синтаксис – это раздел школьной грамматики, для меня – глава поэмы о любви и ненависти слов друг к другу. Про поэму не я выдумал – Андрей Белый (Белый А. Поэма слова. – Петербург, 1922). Семантический синтаксис – сын семиотики. Из всей обширной группы объектов семиотики наибольшая общность обнаруживается между языком и художественной литературой, то есть искусством, использующим язык и только язык в качестве своего средства. Из безбрежного моря объектов этого мира наибольшее сходство обнаруживается между человеком и его языком…
Для меня любой косноязычный человек некрасив не только внутренне – обязательно внешне. В моей математике между ментальным и физическим телом не просто знак приблизительного равенства – абсолютного тождества… Когда-то это было очевидной нормой. Моисей был страшно косноязычен. И урод, каких поискать. Злой был дядька. Морил своих евреев голодом. Наказывал за малейшие провинности. Про сорок лет хождения по пустыне источники врут. Точнее – здесь досадное недоразумение при переводе древнего текста. На самом деле он вел свою толпу через перешеек между Африкой и Азией не сорок лет, а от силы полтора месяца, дней сорок. Но достал всех крепко, из египетского рабства бедные евреи попали в жалящее тучей комаров нуднее нудного фарисейство. Туда нельзя, сюда нельзя, черно-бело не берите, да и нет не говорите… В качестве компенсации за долготерпение, евреи придумали миф, что они самые умные. С тех пор любой еврей считает себя самым умным. Ерунда, что евреи жадные или скупые. Скупы французы, жадны датчане, евреи просто считают себя самыми умными… А это неправда. Евреям обидно. Похвастаться им больше нечем. Оттого их знаменитая грусть… О Господи, кажется приземляемся! Внизу – зеленое море сосновых лесов под Красноярском. Чего только не придумаешь, какую несусветную чушь не станешь крутить в своей башке, лишь бы только отделаться от мыслей о смерти…
2
Первые два года в университете, наверное, заложили хребет моей образованности, но были довольно скучными. Зубрежка и картошка. Вот чем были эти два года…
Я обломал зуб мудрости о гиперфонемы Панова, выучил наизусть около ста латинских пословиц (любимая: «De gustibus et coloribus non est disputantum»), в «Слове о Плъку Игореве…», правда, смог выучить только начало:
Не лепо ли ны бяшетъ, братие,начяти старыми словесы трудныхъ повестий о пълку Игореве,Игоря Святъславлича?
Начати же ся тъй песни
по былинамь сего времени,
а не по замышлению Бояню!
Боянъ бо вещий,аще кому хотяше песнь творити,то растекашется мыслию по древу,серымъ вълкомъ по земли,шизымъ орломъ подъ облакы.Помняшеть бо рече,първыхъ временъ усобице…
А вот несравненной Ёлкиной я сдавал старославянский семнадцать раз! Кажется, это был абсолютный рекорд факультета, во всяком случае, когда я приехал через год после выпуска из Атагуля на стажировку и появился в общежитии на Вернадского, меня представляли «поколению младому, незнакомому» именно таким образом: «Это тот самый чувак, который семнадцать раз сдавал старославянский Ёлкиной». Первокурсники после этих слов кончали свои щенячьи визги…
В принципе я мог бы сдать со второго раза. Сам-то считал, что достоин «старослава» с первого. Подумаешь, запнулся на творительном падеже четвертого склонения, а аорист пытался рассказать по Хабургаеву (знающие люди говорили, что сдавать Ёлкиной по Хабургаеву – всё равно, что знакомить жену с любовницей, не надев бронежилета) … Что, не хватит для зачета? – Нет, – сказала Ёлкина. – Придете в следующий раз.
Я пришел в следующий раз, ровным счетом ничего не перечитывая. У меня вообще не было учебника Ёлкиной, только куски чужих конспектов. «Вы решили взять меня измором? – А насколько нам пригодится такое железобетонное знание мертвого языка, если мы, например, будет преподавать в школе? – Э-э, не скажите, молодой человек, – Ёлкина показала пальцем в ту сторону небесных сфер, где, наверное, были прописаны с 988 года Ярила с Велесом. – Сорок лет ко мне приходят бывшие студенты и благодарят, потому что они, прослушав мой курс, сразу могут ответить ученикам, почему мы говорим: „здравоохранение“, а не „здоровоохрана“ и почему „хочу“, но „хотим“! – Понятно, – грустно кивал я и путался в парадигме склонения существительных на «-а». Нина Максимовна мило улыбалась, спрашивала, а правда ли, что в Атагуле вообще нет зимы? – Нет, – говорил я, – зима есть, бывают морозы до минус десяти, но зима очень маленькая, с середины декабря по середину февраля, а то вообще до Нового года может не быть снега, в обед 31 декабря, был такой год, все ходили под солнцем по чистому асфальту в пиджаках и кофтах, первый снег пошел в половине двенадцатого ночи. – Хорошо, – мечтательно произносила Ёлкина. – Конечно, хорошо, – говорил я и добавлял: – Приезжайте! – Обязательно приеду…
Потом я ходил к ней домой. Я пошел на принцип. Ничего не читал и шел, надеясь на то, что она когда-нибудь устанет и поставит мне зачет после двух-трех правильно рассказанных парадигм. Она не уставала. Ёлкина желала услышать всё, что написано в учебнике старославянского Ёлкиной. Слушала напряженно, затаив дыхание, не скрываясь, переживала. Когда я делал ошибку, она с ненаигранной, с натуральной болью восклицала: «Да не «-а» здесь окончание, не «-а», а «-у»!.. – качала головой и шла ставить чайник. Потом мы пили чай с ее очередным тортом или пирожными. Особенно ей удавались слоеные торты. Одних разновидностей «наполеона» она делала семь-восемь. Когда она служила в войну санитаркой, таскала на себе раненых из боя, видела горы трупов и поля, усеянные оторванными конечностями, ей хотелось одного – сладкого…
Когда я приехал через год после выпуска на стажировку и появился в общежитии на Вернадского, меня в некоторых комнатах (а обойти нужно было весь восьмой-девятый филфаковский этаж) иногда представляли «поколению младому, незнакомому» именно таким образом: «Это тот самый чувак, который семнадцать раз сдавал старославянский Ёлкиной»…
Сереже Скупому меня никак не нужно было представлять. Три года мы делили с ним жизнь дворников ДЭЗа в районе метро «Парк Культуры» со стороны Фрунзенской набережной и соответственно улиц имени Тимура Фрунзе, Фрунзенских Первой, Второй и Третьей…
Три университетских года одновременные с дворницкой жизнью шли в полном соответствии с геометрией Лобачевского, доказавшего, что параллельные прямые пересекаются. Никуда так стремительно я не стремился, как из квартиры-коммуналки, шабашек «на стеклах» и «на шурфах», игры на бегах, из ночных попоек, драк и примитивного флирта – в лекционные и семинарские аудитории, тишь библиотек, а из тиши библиотек, из семинарских и лекционных аудиторий – в квартиру-коммуналку на четверо хозяев, свой участок в старом дворе на Третьей Фрунзенской… Вот, как всегда без четверти восемь утра, ты выметаешь последние желтые листочки из-под бордюров, а из третьего подъезда выходит Татьяна Доронина – главреж одного из двух Московских Художественных театров, садится в белую «Волгу», как всегда здоровается первой: «Здравствуйте, Андрей! – Доброе утро!»… Но дворницкая зарплата – пшик, чуть больше стипендии, поэтому – шабашки: протирка стекол – клиника Первого меда на «Спортивной», Министерство сельского хозяйства на «Парке Культуры» и МПС на «Лермонтовской»; шурфы – о эти шурфы, изыскательские ямы под фундаментами очень старых, старых и нестарых московских домов, отрытые нами – мной, Лехой, Колей – в стольких местах Москвы, что прикалывай мы флажки к тем местам карты, где их рыли, мы рисковали бы тем, что за флажками не видно было бы карты, – благодаря вам, дорогим моим шурфам, я понял, что Москва – не город, а целая Вселенная из нескольких эпох, но двух лишь почвооснований, – на шурфах можно было срубить пять, семь, десять дворницких зарплат с одного объекта, то есть за неделю, да, тяжеловатого труда, бетон вскрываешь из подвалов ломами, ломы тупятся через два-три часа адской работы, весь дрожишь, как осиновый лист, ведь каждый твой размашистый удар встречен полным бетонным равнодушием, вскроешь бетон – все руки в кровавых мозолях, перчатки, пластырь, бинты – ерунда, не защитники, – еще не победа, еще копаешь саму яму, сам шурф лопатой со спиленным наполовину черенком, иногда до пяти метров, сверху – «культурный слой»: обломки кирпичей, мусор, шлак, корни деревьев, не продерешься, только потом песочек или суглинок, метрах на двух, редко когда на метре, затем еще замеры и собирание проб в бюксы, хотя это – самое сладкое, таких шурфов на объекте от четырех до двадцати, работка та еще, сказать по правде, одни крысы чего стоят, с ними нужно научиться жить дружно, например, на Митинском рынке, сто лет назад здесь торговали молоком, через три часа торговли, что не продали – на землю: холодильников не было, – земля на Митинском ранке пропиталась молоком на сто лет вперед, крысы на Митинском величиной с кошку, сойдутся штук пятнадцать из разных углов подвала какого-нибудь бывшего мясного ларька, сейчас похожего на бункер Кенигсбергских укреплений вермахта весной сорок пятого, смотрят крысокошки на тебя так выжидающе, ну что, чувак, смерти ищешь, или как? – Или как, – сквозь зубы отвечаешь, и бросаешь в дальний темный угол свой обед им на поживу… После каждого объекта, по закону Архимеда, чтобы вернуться с такими деньгами, вернее, без денег, ну в общем, в некое состояние жизненного равновесия, а главное – в аудитории университета, нужны были бега – метро «Беговая», настоящий игрок ставит в тройном экспрессе и знает, что на Полишкина, пи……, ставить нельзя ни в коем случае, даже если он едет на фаворите с резвостью космической ракеты: обязательно проскачку сделает, аль еще как подоср.., вот на Аллу Ивановну всегда можно поставить, но всё равно в конце всё проиграешь, – ах как славно, проигравшись в прах, до последних пяти копеек на метро, доехать с одной пересадкой до «Парка Культуры», дойти до дома – ровно одна сигарета, нашарить в тумбочке рублей сто заначки, начать пить втроем, окончить целым табором, ночью подраться с таксистами-спиртовозами, потом кого-то снять на Садовом кольце возле любимого книжного «Прогресс», сейчас беспробудно спящего, проснувшись, гнать эту лимитчицу взашей, без малейшего шанса на вечерний звонок и последующую тусовку, а тем более сиюминутный душ и пряник, швырнуть ей факинг юбку, прикрой срам! – две сигареты «Явы явской» и три рубля на тачку – прощай, как там у Палладия Афинского? – «Женщина, в общем-то, зло // Правда, хорошей бывает // Или на ложе любви, // Или на смертном одре…»
Сережа Скупой заканчивал аспирантуру и по-прежнему жил на истоке Комсомольского проспекта, хотя за то время, пока меня в Москве не было, успел жениться, прописаться к жене, правда, в коммуналку, далековато, правда, от цивилизации, от метро «Сокольники» еще полчаса на трамвае пилить, успел и развестись… В ДЭЗе давно не работал – платил и, по его словам, немало за то, что продолжал числиться по метельному ведомству и жить на служебной жилплощади… Скупой, кстати, это не прозвище, а натуральная фамилия, как жаловался Сережа, весьма нерачительная: он никому не мог отказать в просьбе занять двадцать-тридцать-сто до получки, чем все его знакомые всю жизнь успешно пользовались… По этой причине, а также по той, что Сережа был сибарит, жить любил изящно, ему бы лордом Байроном родиться, иль хотя бы Шелли, зарабатывать приходилось Сереже много. Он окончил наш филфак, отделение «Русский как иностранный», хорошее, хитрое отделение, академических знаний оно давало почти столь много и основательно, как и фундаментальное, русское отделение, но, как и на романо-германском, здесь прилично изучали два языка – Сережа знал английский и французский…
Кормил меня Сережа тушеными овощами, долго ждали, пока приготовленные помидоры-баклажаны-перцы охладятся… Я сильно подозревал, что мяса у Сережи в доме давно не водилось, но вот так он устроен: тушеные овощи горячими не едят…
Наконец, Сергей поставил на стол тарелки с ужином и… бутылку «Камю» семилетней выдержки… Для осени 1991-го года, когда овальные сигареты без фильтра типа «Прима» – паслен с соломой пополам, продавались по карточкам, когда пустыми были полки даже в магазинах «Березка» на Киевской и на Сиреневом бульваре, не говоря о заштатных «Кулинариях» и продмагах, когда московские старухи жили тем, что выстраивались по длине всей улицы Горького-Тверской, продавая те же сигареты, которые час назад купили на противоположной стороне на пятьдесят копеек дешевле у такой же бесконечной вереницы московских стариков, когда бутылку водки подозрительного осетинского разлива можно было купить только у спиртоносов, по цене авиабилета из Москвы до Киева, который, впрочем, прибрести по своей цене было невозможно, – это было так удивительно, словно бы в дверь твоей квартиры на окраине Магадана, где ты уж год сидел без копейки денег и надежд на лучшее, злой, голодный и небритый, позвонили, ты открыл, а на пороге стоял Дэвид Бэкхем в футболке «Макдоналдса» и спрашивал: «Пиццу заказывали?»
– Это для начала, – сказал Сережа и сделал паузу. – Это от Коли Удовиченко. Он, как понимаешь, человек занятой, бизнесмен, не чета нам, но прослышал, что ты приехал, вот просил передать по старой дружбе… Ничего, что я на стол поставил?..
– «Для начала»? А что дальше-то будет? Шерон Стоун с воплями: «Андрюша, я ваша на веки»?
– Ну, Шерон Стоун пока не обещаю… Ты ешь, ешь, остынет, – плоско пошутил Сергей, но я принялся откупоривать незнакомую до двадцать шестого года моей отнюдь не скучной жизни бутылку, потом выпили по рюмке, с таким чувством, наверное, Колумб бродил по западноатлантическим островам…
Если бы Сережа Скупой не был так безапелляционно уверен во всем, что бы он ни говорил, он был бы приятным собеседником. Но потерпеть час-полтора его можно, мало того, за это время можно, фильтруя его выводы, конечно, впитать кое-какую полезную информацию. За те три года, когда мы жили в одном подъезде служебного дэзовского дома, я узнал суть философии Герберта Честертона, не прочитав еще его книги, причем в весьма оригинальной формулировке: «Нет ничего хуже служить интеллекту, потому что пока одни служат интеллекту, другие им пользуются». В этой формуле «интеллект» был некоей переменной, допускающей подстановку «культуры» вообще, «искусства» в частности, «науки» и «умения жить». А идею «Заката Европы» Шпенглера я уяснил от Сергея Скупого на вполне доходчивом примере: вот сидит секретарша ректора МГУ – в смысле Молдавского государственного университета (Сережа был родом из Кишинева) – вокруг ума палата, не ей добытая, и красная ковровая дорожка, не ей сотканная, но она-то думает, что во всем, что ее окружает, есть некая ею прибавленная стоимость, потому что без ее техницизма невозможна никакая власть в университете, потому что вся современная цивилизация – это уже не ума палата и не умение ткать ковры, – это лишь ленточный червь власти: президент академии наук – министр образования – класс ректората – класс секретарш ректоров. Всё! На самом деле эта вроде бы безобидная секретарша, перед которой склоняют головы профессора, заглянувшие в микромир и по ту сторону добра и зла, перед которой они безотчетно робеют, – эта секретарша скрывает в себе центр подмены власти культуры на власть воли к власти… Сам текст «Заката Европы» я прочитал через несколько лет после Сережиного объяснения (… Новосибирск: Наука, 1993)…