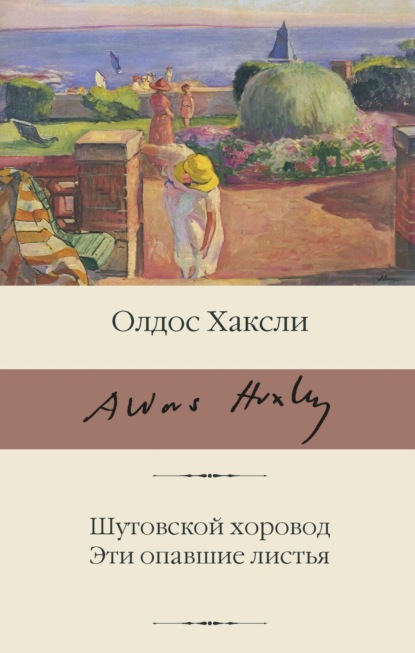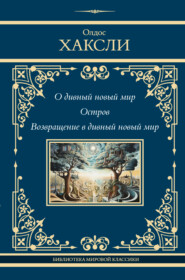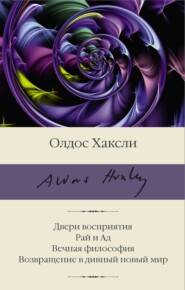По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Шутовской хоровод. Эти опавшие листья
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Шутовской хоровод. Эти опавшие листья
Олдос Леонард Хаксли
Библиотека классики (АСТ)
«Шутовской хоровод» (1923) – роман, в котором Олдос Хаксли вновь обращается к теме «потерянного поколения», но делает это уже не как поэт, его воспевающий, а как сатирик, обличающий его душевную импотенцию и творческое бессилие, его эгоистическую зацикленность на себе и элементарную неприспособленность к повседневной жизни. Художники, разучившиеся творить, философы, разучившиеся мыслить, женщины, утратившие смысл жизни, и мужчины, живущие в погоне за адреналином, – Хаксли хорошо знает своих персонажей, и это знание делает его особенно беспощадным.
«Эти опавшие листья» (1925) – произведение, стилистически продолжающее цикл книг этого выдающегося писателя о «потерянном поколении» британских интеллектуалов. История богатой вдовы-меценатки, пытающейся возродить на итальянской вилле традицию легендарных артистических салонов эпохи Возрождения, чьи посетители очевидно не способны претендовать на новых Боккаччо и новых да Винчи. И Хаксли не был бы самим собой, если бы этот легкомысленный в общем сюжет не превратился под его пером в блистательное произведение искусства – произведение умное и тонкое, в котором язвительная сатира сочетается с глубокой философией.
Олдос Хаксли
Шутовской хоровод. Эти опавшие листья
Aldous Huxley
ANTIC HAY
THOSE BARREN LEAVES
© Aldous Huxley, 1923, 1925
© Перевод. И.А. Романович, наследники, 2015
© Перевод. И.Л. Моничев, 2014
© Издание на русском языке AST Publishers, 2022
Шутовской хоровод
Глава 1
Гамбрил, Теодор Гамбрил Младший, Б. И. Оксф.[1 - Бакалавр искусств, воспитанник Оксфордского университета. – Здесь и далее примеч. пер.], сидел на дубовой скамье в северной части школьной церкви и недоумевал, слушая первое поучение среди напряженного молчания полутысячи школьников, размышлял, глядя на широкое окно в противоположной стене, залитое синькой и желчью и кровью цветных стекол девятнадцатого столетия, теоретизировал по-своему – быстро, скачками – о существовании и природе Бога.
Стоя перед медным орлом с распростертыми крыльями и подкрепляясь в своих убеждениях шестой главой «Второзакония» (так как сегодня было первое воскресенье триместра и пятое воскресенье после Пасхи), его преподобие мистер Пелви говорил об этих вещах с завидной уверенностью.
– Слушай, Израиль, – гудел он над объемистой Библией, – Господь Бог наш, Господь един есть.
«Господь един» – мистер Пелви знал это: он изучал теологию. Но если есть теология и теософия, то почему бы не быть теографии и теометрии, или теогномии, теотропии, теотомии, теогамии? Почему нет теофизики и теохимии? Почему не изобрести остроумную игрушку теотроп, или колесо богов? Почему не построить монументальный теодром?
На огромном витраже в противоположной стене юный Давид стоял на поверженном великане, как петух, кукарекающий на навозной куче. Посреди лба у Голиафа выпирал забавный нарост, похожий на прорезающийся рог нарвала. Может быть, это пущенный из пращи камень? Или намек на супружескую жизнь великана?
– …всем сердцем твоим, – декламировал мистер Пелви, – и всею душою твоею, и всеми силами твоими.
Нет, серьезно, напомнил себе Гамбрил, разрешить этот вопрос не так-то просто. Бог как ощущение теплоты в сердце, Бог как ликование, Бог как слезы на глазах, Бог как прилив сил и мыслей – все это очень ясно. Но Бог как истина, Бог как 2 ? 2 = 4 – это далеко не так ясно. Возможно ли, чтобы эти два бога были одно и то же? Можно ли перекинуть мост между этими двумя мирами? И может ли быть, чтобы его преподобие мистер Пелви, М. И.[2 - Магистр искусств.], бубнящий из-за спины императорской птицы, может ли это быть, чтобы он нашел ответ и ключ? Это казалось малоправдоподобным – особенно тому, кто лично знал мистера Пелви. А Гамбрил его знал.
– И слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, – ответил мистер Пелви, – да будут в сердце твоем.
В сердце или в голове? Отвечайте, мистер Пелви, отвечайте! Гамбрил проскочил между рогами дилеммы и высказался за другие органы.
– И внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая.
«И внушай их детям твоим…» Гамбрил вспомнил свое детство: ему самому внушали не слишком-то усердно. «Тараканы, черные тараканы»: его отец страстно ненавидел священников. Другим его любимым словом было «идолопоклонники». Он был убежденным врагом церкви и атеистом старого закала. Нельзя сказать, впрочем, чтобы он очень уж ломал себе голову над подобными вопросами: он был слишком занят своим ремеслом архитектора-неудачника. Что же касается матери Гамбрила, то ее усердие не распространялось на догму. Она усердно делала добро, и только. Добро; добро? Теперь это слово произносят не иначе как с презрительной усмешечкой. Добро. По ту сторону добра и зла? Теперь мы все по ту сторону. Или мы просто не доросли до них, как уховертки? «Всякое дыхание да славит уховертку»[3 - Пародия на библейское: «Всякое дыхание да хвалит Господа».]. Гамбрил мысленно сделал соответствующий жест и продекламировал. Но она безусловно была доброй – это факт. Не милой, не просто molto simpatica[4 - Очень симпатичная (ит.).] – как чудесно эти иностранные словечки помогают нам называть лопату не лопатой, а как-нибудь иначе! Она была именно доброй. У тех, кто соприкасался с ней, появлялось такое чувство, точно она всем своим существом излучает доброту… Так неужели же это чувство менее реально, менее законно, чем дважды два?
Его преподобию мистеру Пелви нечего было ответить. Он с благочестивым смаком читал о «домах, наполненных всяким добром, которых ты не наполнял, и колодезях, высеченных из камня, которых ты не высекал, и виноградниках и маслинах, которых ты не садил».
Она была добрая, и она умерла, когда он был еще ребенком; умерла – но он узнал об этом гораздо позже – от незаметно подкравшейся мучительной болезни. Злокачественная опухоль – о, саrо nome![5 - Милое имя (ит.).]
– Господа Бога твоего бойся, – сказал мистер Пелви.
Даже если язвы незлокачественны, ты все-таки должен бояться. Он приехал из школы повидаться с ней перед самой ее смертью. Он не знал, что она умирает, но когда вошел в комнату, когда увидел ее, бессильно распростертую на кровати, он вдруг неудержимо зарыдал. Но она проявила выдержку: она даже смеялась. И она говорила с ним. Всего несколько слов – но в них заключена была вся мудрость, которой он должен был руководствоваться в жизни. Она говорила ему о том, каков он в действительности, и каким он должен стараться быть, и как ему сделаться таким, как нужно. И рыдая, все еще рыдая, он обещал, что будет стараться.
– И заповедал нам Господь исполнять все постановления сии, – сказал мистер Пелви, – дабы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь.
А исполнил ли он свое обещание, спросил себя Гамбрил, сохранил ли он свою жизнь?
– Здесь кончается первое поучение.
Мистер Пелви удалился от орла, и орган возвестил приближение Те Deum[6 - Тебя, Господи, хвалим (лат.) – начало молитвы.].
Гамбрил поднялся: складки его бакалаврской мантии благородно заволновались на нем. Он вздохнул и помотал головой, словно отгоняя муху или назойливую мысль. Когда настало время петь, он запел. В другом конце церкви двое мальчиков пересмеивались и болтали, прикрывшись молитвенниками. Гамбрил, свирепо нахмурившись, посмотрел на них. Мальчики поймали его взгляд, и их лица сейчас же приняли тошнотворно-ханжеское выражение; они набожно запели. Два некрасивых, глупых на вид балбеса; их давно пора было обучить какому-нибудь полезному ремеслу. Но вместо этого они попусту тратили время – свое, своих учителей и своих более способных сверстников – на то, чтобы приобрести изящное литературное образование. Собаке никакой пользы, подумал Гамбрил, если учить ее по-человечьи.
– Господи, помилуй нас; Господи, помилуй.
Гамбрил пожал плечами и обернулся, разглядывая лица мальчиков. Господи, помилуй, помилуй нас, Господи, – в самом деле! Его несколько смутило то, что эта тема снова возникла, но уже в другой тональности, во втором поучении, извлеченном из Евангелия от Луки, глава 23.
– Отче! прости им, – сказал мистер Пелви своим неизменно сочным голосом, – ибо не ведают, что творят.
Да; ну, а если ведаешь, что творишь? Если, предположим, ведаешь это слишком хорошо? А ведь на самом деле «ведаешь» всегда. Не такие уж мы дураки.
Но все это ерунда, всяческая ерунда. Подумаем лучше о чем-нибудь более приятном. Как удобно было бы, например, если бы можно было приносить с собой в церковь резиновую подушку. Эти дубовые скамьи чертовски жесткие; они созданы для солидных, жирных педагогов, а не для таких костлявых заморышей, как он. Резиновая подушка, чудесный пневматик.
– Здесь кончается, – пробубнил мистер Пелви, закрывая книгу на спине германского орла.
Как по мановению волшебной палочки, орган мистера Джолли начал Benedictus[7 - Благословен (лат.).]. Было положительно облегчением снова встать со скамейки: этот дуб тверд, как адамант. Но резиновые подушки, увы, – это был бы дурной пример для мальчиков. Выносливые юные спартанцы! Слушать божественное откровение без смягчающих пневматиков – это было одним из важнейших пунктов программы их воспитания. Нет, резиновые подушки не годятся. Вдруг ему пришло в голову, что идеальным средством были бы брюки с пневматическим сиденьем. На все случаи жизни, не только для церкви.
Одна из бесчисленных ноздрей органа издала тоненький звук, похожий на голос пуританского проповедника. «Верую…» Шумно, как перекатывается волна, все пятьсот голов повернулись к востоку. Вместо Давида и Голиафа все смотрели теперь на распятие в возвышенном стиле шестидесятых годов. «Отче, прости им; ибо не ведают, что творят». Нет, нет. Гамбрил предпочитал созерцать желобчатые каменные колонны, плавно подымающиеся к сводчатому потолку по обеим сторонам большого окна в восточной стене; предпочитал размышлять, как истый сын архитектора, о том, что идеальный Перпендикуляр – а чем он выше, тем он ближе к идеалу – это самое лучшее, что есть в английской готике. Когда он невысок, а следовательно, далек от идеала, как в большинстве оксфордских колледжей, он ничтожен, неприятен и, если оставить в стороне некоторую живописность, просто безвкусен. Гамбрил чувствовал себя лектором: следующий снимок, пожалуйста. «И жизни будущего века. Аминь». Голос мистера Пелви звучал, как гобой: «Мир вам».
Для молитвы, подумал Гамбрил, должны быть пневматические наколенники. Впрочем, в те дни, когда он имел обыкновение молиться регулярно, он прекрасно обходился без них. «Отче наш…» Слова те же, что и тогда, но в исполнении мистера Пелви они звучали совсем иначе. По вечерам, когда он прижимался лбом к ее коленям, чтобы произнести эти слова – эти слова, о Господи! те самые, которые теперь мистер Пелви убивал своим похожим на гобой голосом, – платье у нее было всегда черное, шелковое, и от него пахло ирисовым корнем. А умирая, она сказала ему: «Помни притчу о сеятеле… и семена, упавшие на каменистую почву». Нет, нет! Аминь, самым решительным образом. «О Господи, буди милостив к нам», – пропел гобой Пелви, и тромбон Гамбрил ответил тоном низким и карикатурным: «И не оставь нас спасением Твоим». Ну конечно же, пневматические колени нужны разве только членам общества религиозного возрождения и горничным; сиденье гораздо важней. Профессий, требующих сидячего образа жизни, гораздо больше, чем таких, которые требуют коленопреклонений. Нужны плоские резиновые подушечки между тканью и подкладкой. А выше, под сюртуком, трубка с клапаном: вроде полого хвоста. Достаточно будет надуть ее – и самому костлявому человеку будет удобно сидеть даже на самом твердом камне. Как это греки выдерживали мраморные скамьи в театрах?
Теперь настало время для гимна. Было первое воскресенье летнего триместра; поэтому сегодня пели особый гимн, написанный директором школы на музыку д-ра Джолли специально для первых воскресений триместра. Орган спокойно набросал мелодию. Она была проста, возвышенна и мужественна.
Раз, два, три, четыре; раз, два, ТРИ – 4.
Раз, два – и три – и четыре – и; Раз, два, ТРИ – 4
РАЗ – 2, ТРИ – 4; РАЗ – 2–3 – 4
и – РАЗ – 2, ТРИ – 4; РАЗ – 2–3 – 4.
Раз, два – и три, четыре; Раз, два, ТРИ – 4.
Пятьсот ломающихся мальчишечьих голосов подхватили мотив. Чтобы не подавать дурного примера, Гамбрил открывал и закрывал рот, но – беззвучно. Только на третьем стихе он дал волю своему сомнительному баритону. Ему особенно нравился третий стих; по его мнению, этот стих был величайшим достижением директора на поэтическом поприще.
(f) Кто бездельник (dim.) и ленив,
(mf) Козней дьявола страшись,
Олдос Леонард Хаксли
Библиотека классики (АСТ)
«Шутовской хоровод» (1923) – роман, в котором Олдос Хаксли вновь обращается к теме «потерянного поколения», но делает это уже не как поэт, его воспевающий, а как сатирик, обличающий его душевную импотенцию и творческое бессилие, его эгоистическую зацикленность на себе и элементарную неприспособленность к повседневной жизни. Художники, разучившиеся творить, философы, разучившиеся мыслить, женщины, утратившие смысл жизни, и мужчины, живущие в погоне за адреналином, – Хаксли хорошо знает своих персонажей, и это знание делает его особенно беспощадным.
«Эти опавшие листья» (1925) – произведение, стилистически продолжающее цикл книг этого выдающегося писателя о «потерянном поколении» британских интеллектуалов. История богатой вдовы-меценатки, пытающейся возродить на итальянской вилле традицию легендарных артистических салонов эпохи Возрождения, чьи посетители очевидно не способны претендовать на новых Боккаччо и новых да Винчи. И Хаксли не был бы самим собой, если бы этот легкомысленный в общем сюжет не превратился под его пером в блистательное произведение искусства – произведение умное и тонкое, в котором язвительная сатира сочетается с глубокой философией.
Олдос Хаксли
Шутовской хоровод. Эти опавшие листья
Aldous Huxley
ANTIC HAY
THOSE BARREN LEAVES
© Aldous Huxley, 1923, 1925
© Перевод. И.А. Романович, наследники, 2015
© Перевод. И.Л. Моничев, 2014
© Издание на русском языке AST Publishers, 2022
Шутовской хоровод
Глава 1
Гамбрил, Теодор Гамбрил Младший, Б. И. Оксф.[1 - Бакалавр искусств, воспитанник Оксфордского университета. – Здесь и далее примеч. пер.], сидел на дубовой скамье в северной части школьной церкви и недоумевал, слушая первое поучение среди напряженного молчания полутысячи школьников, размышлял, глядя на широкое окно в противоположной стене, залитое синькой и желчью и кровью цветных стекол девятнадцатого столетия, теоретизировал по-своему – быстро, скачками – о существовании и природе Бога.
Стоя перед медным орлом с распростертыми крыльями и подкрепляясь в своих убеждениях шестой главой «Второзакония» (так как сегодня было первое воскресенье триместра и пятое воскресенье после Пасхи), его преподобие мистер Пелви говорил об этих вещах с завидной уверенностью.
– Слушай, Израиль, – гудел он над объемистой Библией, – Господь Бог наш, Господь един есть.
«Господь един» – мистер Пелви знал это: он изучал теологию. Но если есть теология и теософия, то почему бы не быть теографии и теометрии, или теогномии, теотропии, теотомии, теогамии? Почему нет теофизики и теохимии? Почему не изобрести остроумную игрушку теотроп, или колесо богов? Почему не построить монументальный теодром?
На огромном витраже в противоположной стене юный Давид стоял на поверженном великане, как петух, кукарекающий на навозной куче. Посреди лба у Голиафа выпирал забавный нарост, похожий на прорезающийся рог нарвала. Может быть, это пущенный из пращи камень? Или намек на супружескую жизнь великана?
– …всем сердцем твоим, – декламировал мистер Пелви, – и всею душою твоею, и всеми силами твоими.
Нет, серьезно, напомнил себе Гамбрил, разрешить этот вопрос не так-то просто. Бог как ощущение теплоты в сердце, Бог как ликование, Бог как слезы на глазах, Бог как прилив сил и мыслей – все это очень ясно. Но Бог как истина, Бог как 2 ? 2 = 4 – это далеко не так ясно. Возможно ли, чтобы эти два бога были одно и то же? Можно ли перекинуть мост между этими двумя мирами? И может ли быть, чтобы его преподобие мистер Пелви, М. И.[2 - Магистр искусств.], бубнящий из-за спины императорской птицы, может ли это быть, чтобы он нашел ответ и ключ? Это казалось малоправдоподобным – особенно тому, кто лично знал мистера Пелви. А Гамбрил его знал.
– И слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, – ответил мистер Пелви, – да будут в сердце твоем.
В сердце или в голове? Отвечайте, мистер Пелви, отвечайте! Гамбрил проскочил между рогами дилеммы и высказался за другие органы.
– И внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая.
«И внушай их детям твоим…» Гамбрил вспомнил свое детство: ему самому внушали не слишком-то усердно. «Тараканы, черные тараканы»: его отец страстно ненавидел священников. Другим его любимым словом было «идолопоклонники». Он был убежденным врагом церкви и атеистом старого закала. Нельзя сказать, впрочем, чтобы он очень уж ломал себе голову над подобными вопросами: он был слишком занят своим ремеслом архитектора-неудачника. Что же касается матери Гамбрила, то ее усердие не распространялось на догму. Она усердно делала добро, и только. Добро; добро? Теперь это слово произносят не иначе как с презрительной усмешечкой. Добро. По ту сторону добра и зла? Теперь мы все по ту сторону. Или мы просто не доросли до них, как уховертки? «Всякое дыхание да славит уховертку»[3 - Пародия на библейское: «Всякое дыхание да хвалит Господа».]. Гамбрил мысленно сделал соответствующий жест и продекламировал. Но она безусловно была доброй – это факт. Не милой, не просто molto simpatica[4 - Очень симпатичная (ит.).] – как чудесно эти иностранные словечки помогают нам называть лопату не лопатой, а как-нибудь иначе! Она была именно доброй. У тех, кто соприкасался с ней, появлялось такое чувство, точно она всем своим существом излучает доброту… Так неужели же это чувство менее реально, менее законно, чем дважды два?
Его преподобию мистеру Пелви нечего было ответить. Он с благочестивым смаком читал о «домах, наполненных всяким добром, которых ты не наполнял, и колодезях, высеченных из камня, которых ты не высекал, и виноградниках и маслинах, которых ты не садил».
Она была добрая, и она умерла, когда он был еще ребенком; умерла – но он узнал об этом гораздо позже – от незаметно подкравшейся мучительной болезни. Злокачественная опухоль – о, саrо nome![5 - Милое имя (ит.).]
– Господа Бога твоего бойся, – сказал мистер Пелви.
Даже если язвы незлокачественны, ты все-таки должен бояться. Он приехал из школы повидаться с ней перед самой ее смертью. Он не знал, что она умирает, но когда вошел в комнату, когда увидел ее, бессильно распростертую на кровати, он вдруг неудержимо зарыдал. Но она проявила выдержку: она даже смеялась. И она говорила с ним. Всего несколько слов – но в них заключена была вся мудрость, которой он должен был руководствоваться в жизни. Она говорила ему о том, каков он в действительности, и каким он должен стараться быть, и как ему сделаться таким, как нужно. И рыдая, все еще рыдая, он обещал, что будет стараться.
– И заповедал нам Господь исполнять все постановления сии, – сказал мистер Пелви, – дабы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь.
А исполнил ли он свое обещание, спросил себя Гамбрил, сохранил ли он свою жизнь?
– Здесь кончается первое поучение.
Мистер Пелви удалился от орла, и орган возвестил приближение Те Deum[6 - Тебя, Господи, хвалим (лат.) – начало молитвы.].
Гамбрил поднялся: складки его бакалаврской мантии благородно заволновались на нем. Он вздохнул и помотал головой, словно отгоняя муху или назойливую мысль. Когда настало время петь, он запел. В другом конце церкви двое мальчиков пересмеивались и болтали, прикрывшись молитвенниками. Гамбрил, свирепо нахмурившись, посмотрел на них. Мальчики поймали его взгляд, и их лица сейчас же приняли тошнотворно-ханжеское выражение; они набожно запели. Два некрасивых, глупых на вид балбеса; их давно пора было обучить какому-нибудь полезному ремеслу. Но вместо этого они попусту тратили время – свое, своих учителей и своих более способных сверстников – на то, чтобы приобрести изящное литературное образование. Собаке никакой пользы, подумал Гамбрил, если учить ее по-человечьи.
– Господи, помилуй нас; Господи, помилуй.
Гамбрил пожал плечами и обернулся, разглядывая лица мальчиков. Господи, помилуй, помилуй нас, Господи, – в самом деле! Его несколько смутило то, что эта тема снова возникла, но уже в другой тональности, во втором поучении, извлеченном из Евангелия от Луки, глава 23.
– Отче! прости им, – сказал мистер Пелви своим неизменно сочным голосом, – ибо не ведают, что творят.
Да; ну, а если ведаешь, что творишь? Если, предположим, ведаешь это слишком хорошо? А ведь на самом деле «ведаешь» всегда. Не такие уж мы дураки.
Но все это ерунда, всяческая ерунда. Подумаем лучше о чем-нибудь более приятном. Как удобно было бы, например, если бы можно было приносить с собой в церковь резиновую подушку. Эти дубовые скамьи чертовски жесткие; они созданы для солидных, жирных педагогов, а не для таких костлявых заморышей, как он. Резиновая подушка, чудесный пневматик.
– Здесь кончается, – пробубнил мистер Пелви, закрывая книгу на спине германского орла.
Как по мановению волшебной палочки, орган мистера Джолли начал Benedictus[7 - Благословен (лат.).]. Было положительно облегчением снова встать со скамейки: этот дуб тверд, как адамант. Но резиновые подушки, увы, – это был бы дурной пример для мальчиков. Выносливые юные спартанцы! Слушать божественное откровение без смягчающих пневматиков – это было одним из важнейших пунктов программы их воспитания. Нет, резиновые подушки не годятся. Вдруг ему пришло в голову, что идеальным средством были бы брюки с пневматическим сиденьем. На все случаи жизни, не только для церкви.
Одна из бесчисленных ноздрей органа издала тоненький звук, похожий на голос пуританского проповедника. «Верую…» Шумно, как перекатывается волна, все пятьсот голов повернулись к востоку. Вместо Давида и Голиафа все смотрели теперь на распятие в возвышенном стиле шестидесятых годов. «Отче, прости им; ибо не ведают, что творят». Нет, нет. Гамбрил предпочитал созерцать желобчатые каменные колонны, плавно подымающиеся к сводчатому потолку по обеим сторонам большого окна в восточной стене; предпочитал размышлять, как истый сын архитектора, о том, что идеальный Перпендикуляр – а чем он выше, тем он ближе к идеалу – это самое лучшее, что есть в английской готике. Когда он невысок, а следовательно, далек от идеала, как в большинстве оксфордских колледжей, он ничтожен, неприятен и, если оставить в стороне некоторую живописность, просто безвкусен. Гамбрил чувствовал себя лектором: следующий снимок, пожалуйста. «И жизни будущего века. Аминь». Голос мистера Пелви звучал, как гобой: «Мир вам».
Для молитвы, подумал Гамбрил, должны быть пневматические наколенники. Впрочем, в те дни, когда он имел обыкновение молиться регулярно, он прекрасно обходился без них. «Отче наш…» Слова те же, что и тогда, но в исполнении мистера Пелви они звучали совсем иначе. По вечерам, когда он прижимался лбом к ее коленям, чтобы произнести эти слова – эти слова, о Господи! те самые, которые теперь мистер Пелви убивал своим похожим на гобой голосом, – платье у нее было всегда черное, шелковое, и от него пахло ирисовым корнем. А умирая, она сказала ему: «Помни притчу о сеятеле… и семена, упавшие на каменистую почву». Нет, нет! Аминь, самым решительным образом. «О Господи, буди милостив к нам», – пропел гобой Пелви, и тромбон Гамбрил ответил тоном низким и карикатурным: «И не оставь нас спасением Твоим». Ну конечно же, пневматические колени нужны разве только членам общества религиозного возрождения и горничным; сиденье гораздо важней. Профессий, требующих сидячего образа жизни, гораздо больше, чем таких, которые требуют коленопреклонений. Нужны плоские резиновые подушечки между тканью и подкладкой. А выше, под сюртуком, трубка с клапаном: вроде полого хвоста. Достаточно будет надуть ее – и самому костлявому человеку будет удобно сидеть даже на самом твердом камне. Как это греки выдерживали мраморные скамьи в театрах?
Теперь настало время для гимна. Было первое воскресенье летнего триместра; поэтому сегодня пели особый гимн, написанный директором школы на музыку д-ра Джолли специально для первых воскресений триместра. Орган спокойно набросал мелодию. Она была проста, возвышенна и мужественна.
Раз, два, три, четыре; раз, два, ТРИ – 4.
Раз, два – и три – и четыре – и; Раз, два, ТРИ – 4
РАЗ – 2, ТРИ – 4; РАЗ – 2–3 – 4
и – РАЗ – 2, ТРИ – 4; РАЗ – 2–3 – 4.
Раз, два – и три, четыре; Раз, два, ТРИ – 4.
Пятьсот ломающихся мальчишечьих голосов подхватили мотив. Чтобы не подавать дурного примера, Гамбрил открывал и закрывал рот, но – беззвучно. Только на третьем стихе он дал волю своему сомнительному баритону. Ему особенно нравился третий стих; по его мнению, этот стих был величайшим достижением директора на поэтическом поприще.
(f) Кто бездельник (dim.) и ленив,
(mf) Козней дьявола страшись,