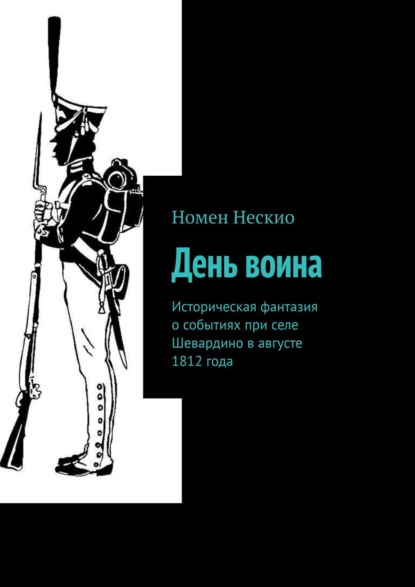По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
День воина. Историческая фантазия о событиях при селе Шевардино в августе 1812 года
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Закуска! – объявил Щербатых, извлекая два недозрелых яблока.
Одно он отдал Денису, а другое предложил своим товарищам, но те отказались. Он откусил и скривился от нестерпимой кислоты и бросил его на траву.
– Тьфу, кислятина какая, аж зубы свело.
Где-то сильно грохнуло, да так, что вздрогнули кони. Не отрываясь, Руднёв смотрел на катящееся яблоко, которое привиделось ему начинённым шипящим брандскугелем, жгущим всё вокруг и разрывающимся на смертельные осколки.
– Убереги, Господи и охорони нас в эту компанию, – одними губами произнёс он, – Нас всех убьют….
– Ты чего, Денис, – спросила Катя с явной тревогой в голосе, смотря на бледное лицо своего теперь уже супруга, – Что с тобой?
Она осторожно вытащила из его ладони второе яблоко и положила его на крыло экипажа. Всё, кто был рядом, внимательно смотрели на Руднёва, пытаясь понять причину беспокойства.
– Чего стоите? Вперёд, вперёд! – прокричал объезжавший колонну штабной офицер.
– Поехали! Трогай! – громко скомандовал Щербатых, махнув рукой.
Молодые заскочили в крытую бричку, остальные офицеры заняли свои места в колонне и растворились к реке из солдат, коней и обозов.
Колонна русских войск скрылась, повторяя изгибы просёлка. Затем промчался небольшой отряд казаков и всё стихло. Лишь где-то за лесом редко раздавались одиночные орудийные выстрелы. Трое мужчин в зипунах и широких шароварах осторожно вышли на дорогу, провожая колонну и боязливо оглядываясь по сторонам. Какое-то время они прятались в крытом конском стойле, где были привязаны пара осёдланных коней, а рядом стояла запряжённая бричка.
Подождав ещё около десяти минут, лавочник произнёс, осторожно дёргая за рукав пана Маницкого:
– Тепер вже точно не повернуться. Поiхали до дому, пан Маницкий. А то, дивись i французи з'являться. Нехай вони там самi воюють, а у нас господарство. Ну чого нам дiлити?
– І то вiрно. Ну навiщо нам своi животи пiдставляти. А коли краще кланятися, так що Наполеоновi, що Олександру чи польським шляхтам, все одно. А ми живi i здоровi. Нiчого, поклоняемося так не переломимся, – поддержал его управляющий.
Маницкий не отрываясь, смотрел в ту сторону, куда ушли русские.
– Сучье вим'я! Клятi москалi! І та шалава. Через батька переступила, сука! – зло произнёс он, потрясая кулаками, – Ну нiчого, нiчого! Тут ми ще подивимося! А ранiше з цим московським попом розберуся!
Затем вдруг резко обернулся, выхватил из-за голенища сапога короткую плётку и решительно направился к церквушке.
– Пан Маницкий, пан Маницкий! Господи, твоя воля! Що, що ти замислив? – приговаривали сопровождающие, хватая его за рукава одежды стараясь задержать,, – Здався тобi цей пiп? Повернеться донька. Почудит трохи та й поверне до дому. Змирися. Французи вже поруч. Треба ховатися, як би бiди не сталося!
– Так що менi тi французи? Зганьбила мене, сука! – отмахиваясь от них, зло произнёс селянин, – Як в очi дивитися буду своiм селянам? А що скажу пановi Ражецкому?
– Так у того пана що Ражецкий синок-то дурачек. Намается дiвка з ним, – попробовал возразить лавочник, – Бачив я як-то, тiеi барчонок пiймав собачку та повiсив ii за шию. А пiсля, з лука стрiлами в неi, вогонь розвiв, стрiлки палить, так прям в пузо собачцi мiтить. Про тож йому радостi було. Як нутро вiд смiху не надiрвав, так смiявся.
– Так, пан Маницкий. Навiщо доньку на таке обрекаешь? – поддержал товарища второй спутник.
Маницкий что было сил рубанул рукой по воздуху и прорычал, обращаясь к управляющему:
– Тобi яка нужда, що берешся мiркувати? Босяцкое порiддя! А бабi i такий пiде, чай не в казанi варити. Зате грошi хорошi i спорiдненiсть. А я вже там розвернуся.
Он поднялся по лестнице и пинком ноги открыл двери. Его спутники последовали за ним, а последний, с опаской оглядев улицу, осторожно прикрыл вход, заперев его на крючок. Громко топая сапогами, пан Маницкий прошёл притвор, с шумом распахнул следующие двери и вновь оказался в главном зале церкви.
– Эй ты! – громко произнёс он, – Поп, выходи!
Он стоял, широко расставив ноги и уперев руки в бока. Из-за широкого пояса виднелась ручка пистолета и кинжал. Его слова эхом поднялись под небольшой свод помещения. Селянин рывком сдёрнул с головы папаху и, потрясая длинным казацким чубом, бросил убор на пол.
– Выходи, собака московская!
Дверь открылась, и показался священник. Он приблизился к троице и спросил:
– От чего же ты кричишь, сын мой? Я здесь и ни от кого не прячусь.
Двое сопровождающих боязливо сняли папахи и поклонились, с опаской посматривая на пана Маницкого.
Увидев батюшку, Маницкий ткнул в него пальцем и спросил:
– Ага-а-а…, вот ты где, опричник! Я пришёл спросить тебя, от чего способил ворогам, да отнял дитё моё от родителя!
Священник приблизился и произнёс:
– Вижу, гнев обуял тебя, сделав слепцом! Я вижу, у тебя оружие, как ты посмел зайти в божий дом при оружии, не будучи воином? Молись, молись и Бог простит тебя! Но прежде я прощу тебя, возьму твои грехи на себя, если выкажешь мне такое намерение! На колени!
Он решительно указал одной рукой на пол, а другой вытянул вперёд массивный железный крест. Лавочник бухнулся в ноги и стал что-то невнятное шептать. От такого неожиданного напора селянин открыл рот. Лицо его было бледным.
Наконец придя в себя, он произнёс:
– Да ты…, ты…! Как посмел так разговаривать со мной, с польским паном?
Маницкий вскинул руку вверх, в которой держал плётку.
– Не сметь! Не сметь! – одёрнул его священник.
– А я посмею, ещё как посмею! Я польский пан….
– А ведомо ли тебе, что нет для Бога государств? – перебил Маницкого священник, – Все едины пред ним и полек и арап и басурманин! Уходи, коли явился со злом, а болен чем, покайся, тогда выслушаю тебя и помогу!
– Скажи, как ты посмел без родительского благословения обручить мою дочь? – вскричал Маницкий.
– За то я сам отвечу, коли будет спрос! Плох и негож тот родитель, что не способствует счастью своих детей
– Она названная! Я за польского пана отдать сговорился! Значит ты преступник!
Батюшка посмотрел на Маницкого, а затем на его спутников, что стояли у селянина за спиной. Управляющий боязливо поднял глаза, и быстро поднеся руку к голове, покрутил пальцем у виска, пытаясь беззвучно произнести какие-то слова. Поняв, он слегка кивнул головой.
– Так ты за хворого хотел дочь свою отдать? – гневно произнёс батюшка, сверкая глазами.
От неожиданности изо рта Маницкого потекла слюна. Он утёрся рукавом и ответил:
– А хоть и так, зато мельню и хороший калым мне был! Тебе-то что за нужда? Бабы, бесовское отродие, должно им беспрекословно подчиняться хозяину и тем более родителю.
– Ведомо мне, что ты дочь свою в «чёрном теле» держал. Не любил ты её, а всё выгоду себе искал. Господь смилостивился над тобой, позволил твоему дитю народиться, а ты его продал.
Священник обернулся к иконам и стал креститься.