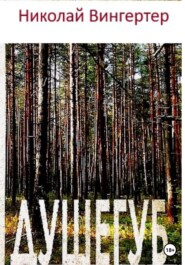По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Аисты
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
АИСТЫ
Николай Вингертер
"Аисты" – книга повестей и рассказов Николая Вингертера, читателю знакомого по романам "Душегуб", "Загадка Бернулли, или Закулисье "Спортлото", "Варлам Пчела".
В сборник включены повести и рассказы разных лет, ранее опубликованные в периодической печати. Это развёрнутые социально-психологические этюды жизни современного человека, когда нечто подобное происходит у нас на глазах почти каждый день, а отношения людей друг к другу , их судьбы, складываются из противоречивых чувств; но, в конечном счете, многое зависит от них самих.
Николай Вингертер
АИСТЫ
АИСТЫ
(рассказ)
Дом Викуловых стоял далеко на отшибе села, но выселками это место никто не считал, к нему даже шла отдельная дорога, выложенная бетонными плитами, а двухэтажный дом и большой двор, окруженные со всех сторон фруктовыми деревьями, со стороны выглядели как зажиточное поместье. По сути это было крестьянское, фермерское подворье площадью с футбольное поле, где имелись и добротные хозяйственные постройки: амбар, сараи и вольеры для живности, навес для парковки разной техники. Жил здесь сам хозяин Иван Викулов и его жена Марта. Среди местных считалось, что богаче них в селе нет, но никто не завидовал, как часто бывает среди людей, потому как знали, что достаток Викуловых был у Ивана, во-первых, от отца, построившего этот дом, во-вторых, благодаря трудившимся «не покладая рук с утра и до ночи» самим Ивану и Марте, которые лишь в самые напряженные дни уборки урожая прибегали к найму сторонних работников, и тех никогда не обижали, честно платили за работу. Иван и Марта удивительно походили друг на друга, словно были брат и сестра. Он, высокий блондин с правильными, волевыми чертами лица и добрыми глазами радужкой цвета синих ирисов; она, ему под стать, с русой косой и серо-голубыми выразительными глазами, в сиреневой тени ресниц которых можно было порой видеть затаившуюся печаль.
Повстречались они и узнали другу друга во время учебы в сельскохозяйственном техникуме, где он осваивал механику, она ветеринарное дело. Никто из их окружения и не сомневался в том, что они должны быть вместе, созданы друг для друга. Марта, выросшая, как и Иван, в селе, приняла его предложение, они создали семью и стали жить в доме его отца, у которого он был поздний и единственный. Старший Викулов, давно овдовевший, был несказанно рад появлению в его доме хозяйки, стал ждать новое поколение Викуловых, и однажды, – а было это еще пять лет назад, во время одного из тихих вечерних семейных ужинов, любуясь молодыми, – сорвалось у него с языка, о чем постоянно думал:
– Мои дорогие, не откладывайте с детишками, как это теперь модно-принято. Дети – благодать божья! Мартушка, – так он сразу стал нежно обращаться к невестке, – уж ты прости меня, старого, за нескромность, даже фривольность, но не зря ведь ещё в старину говорили, что до замужества, девка – это одно дело, но после – «Бабёнка должна быть с ребёнком».
Молодые после его слов растерялись, щеки Марты пошли густым румянцем, Иван, опешивший поначалу, спохватился:
– Отец, ты с ума сошёл! Что такое говоришь? Разве так можно? И потом, Марте предложили место старшего зоотехника в соседнем агрокомплексе. Должен понимать, что работа серьезная, ответственная, возможен рост.
Старик закашлялся и сказал:
– Понимаю, сболтнул лишнего. Так получилось. Прошу прощения! – Было видно, как он смутился своей же смелости и откровенности с невесткой, которую в сущности мало знал, но каким-то шестым чувством человека долго живущего и простого, не привыкшего к сантиментам, видел в ней ум и понимание. И он не ошибся.
– Папа (Марта с первых дней стала так обращаться к Викулову старшему), всё верно говорите. Я сама так думаю. Действительно, как без дитя. – Она повернулась к мужу: – Тебе замечу вот что, когда рожу дитя, после этого разве перестану быть старшим зоотехником. – Она на мгновение задумалась и хитро улыбнулась: – Лошадь после того, как принесёт жеребёнка, разве перестаёт быть лошадью, она также продолжает работать, а жеребенок растет. Думаю, ничего нового не открываю. Материнство – оно важно и нужно, но и женщина должна чего-то в жизни достигнуть, а не превращаться в пожизненного раба своего дитя.
Её слова приятно удивили старика, он, несмотря на больные ноги, словно по стойке «смирно» вскочил, вышел из-за стола, приковылял к Марте и обнял ее:
– Иван, сын! Ты слышал? Да Марта умнее нас с тобой! Доченька, дай Бог тебе здоровья и счастья! – Он прослезился. – Я ведь вот еще что сказать хотел очень важное, раз такой получился разговор. Книжек в своей жизни немного я прочитал, всегда было некогда, работа и работа. Теперь, к концу жизни, как-то пришло мне в голову взять Святую книгу, которая всегда лежала у жены в комоде. И знаете, дорогие, что меня сильно впечатлило, – слова, которые вроде сам знал и понимал, но это одно, другое дело – увидеть их в книге. – Он вышел и вернулся с небольшого размера книгой Библии, раскрыл закладку и стал читать подчеркнутое карандашом из Екклесиаста: – «Труд мой, которым трудился, должен оставить человеку, который будет после меня. И кто знает, мудрый ли он будет или глупый. А он будет распоряжаться всем трудом моим, которым я трудился. Так иной человек трудится всю жизнь со знанием и успехом, а оставляет всё человеку не трудившемуся. И это суета и зло великое».
Старик положил на стол Библию, но не перекрестился, как принято в таких случаях, – он не был воцерковлённым, не знал ни Таинств Покаяния и Причастия, ни другой церковной атрибутики, нужной и важной для истинно верующих, – а Викулов-старший, передохнув, произнёс сакраментальное, но весомое:
– Я очень счастлив, что труд своей жизни могу оставить сыну, достойному, воспитанному в уважении к труду. И я очень-очень желаю вам, чтобы и вы могли когда-то также, с большой радостью, оставить дела рук своих вашим детям…
Прошёл после того памятного дня год, потом еще год, и еще. Иван успешно вёл хозяйство, у Марты удачно складывалась карьера в крупной аграрной фирме. Но старший Викулов так и не дождался внуков. Он больше не затевал прежний разговор о наследниках, но в минуты слабости, огорчаясь, только твердил, что виной всему сам, наверное, ведь и у него сын появился, когда дожил чуть не до пожилого возраста; так, похоже, на их роду написано. После ухода отца, возникшая в доме пустота, тяжело переживалась Иваном и Мартой. У них было перед отцом какое-то патриархально-первобытное чувство вины, которое почти не встречается среди современных людей, что не оправдали его надежды, так и не успели подарить радость общения с внуком или внучкой. Трудно было обоим скрыть это настроение, чтобы не травмировать друг друга, потому что сильно любили друг друга, жалели друг друга. И они, как муж и жена, старались изо всех сил исправить положение, и не было предела в том их молодой страсти и желания. Но время шло, а ничего не менялось. Недоуменно разводили руками и врачи, не находя ни у одного препятствий к рождению ребенка. Весной особенно обострялось чувство горькой реальности, с которой столкнулись, усиливалось осознание какой-то пустоты жизни и потеря веры в то, что исполнится их мечта. У Марты, когда в природе все пробуждалось, а она сама, как в наказание, носила имя с названием первого месяца весны, невольно усиливалось желание материнства. Как у зоотехника, прямо участвующего в создании ею самой условий для возникновения новой жизни у многочисленных подопечных на фермах, а потом наблюдающей появление их детенышей на свет, её сознание в такие минуты просто ломалось под наплывом чувств, которые не могла скрыть. И она, придя домой, часто не поужинав, уходила в спальню, просила ее не тревожить, закрывала шторы, чтобы не было света, укладывалась в постель, накрывшись с головой, чтобы не было слышно никаких звуков, старалась забыться сном. Но сон приходил редко, чаще возникал становившийся всё навязчивее страх, и она страдала бесконечно от не дававших покоя мыслей, что женщина она «пустая», грешна в чём-то и это её наказание, но в чём, не знала и не могла объяснить. Появилась и боль физическая – мигрень, от которой начинала страдать ночь напролёт, не находя себе места ни в развороченной от припадков болезни постели, ни, когда уставшая, в холодной поту, садилась на край кровати, уставившись безмолвно в угол комнаты, или вставала и стояла подолгу перед распахнутым настежь окном, покуда её не отрезвляли пронизывающий холод и сырость зимней ночи. И рождались в такие минуты в её сознании мысли самые невероятные, какие у человека появляются от безысходности и отчаяния. Она, никогда не обращавшаяся к религии, не только начинала вспоминать всех богов, выдуманных человечеством, от Будды, Митры, Зевса или Христа, но впадать в анимизм, вспоминать, какие слышала приметы, гадания на зачатие ребенка; и начинала вдруг строить планы на предстоящий летом отпуск, чтобы съездить в монастырь, молиться у одного из известных списков иконы Матери Божьей, потом поехать обязательно на Кавказ, где, как рассказывали, есть быстрая река, в которую на рассвете сначала нужно войти для омовения, затем подняться на гору и просить себе у солнца дитя. Всё это видел и слышал Иван (Марта и не скрывала), понимавший, что так дальше продолжаться не может.
Викулов, всегда бывший в работе, отдых себе позволял только в воскресенье, которое любил, наслаждаясь домашним покоем и уютом, спокойным общением с любимым человеком за завтраком, – казалось, ничто не могло отменить эти редкие часы для обоих, ставшие хорошей привычкой, – но всё изменилось вместе с поведением Марты в последнее время. Теперь для него прежде чудесные воскресные утренние часы, когда оставался дома, превратились в тяжелое испытание. Завтраки готовил сам, а приготовив, не мог дождаться Марты, которая, как ему казалось, словно нарочно задерживалась, хотя (он знал) уже давно встала, была одета, но была занята одним и тем же – безмолвным стоянием у окна со своими мыслями, что-то высматривающая на улице. Вот и сейчас она не спешила в столовую, несмотря что два раза звал её, а на столе остывали яичница, для нее сваренная каша, и заваренный кофе. Он встал и подошел к дверям, чтобы снова её позвать. В этот раз, лишь приоткрыв дверь, услышал, как Марта что-то вполголоса читает, держа перед собой листок бумаги. Он не стал её отвлекать, дождался пока положила листок на тумбочку у изголовья кровати. Она вышла, молча уселась за стол, принявшись за еду, и через время попросила её извинить, что заставила ждать. Повторялось такое уже не первый раз. Марта стала другой, но все равно его самым дорогим и любимый человеком, для него по-прежнему открытым, ласковым и ничего от него не скрывающим. Он спросил, что она читала. Марта, застеснявшись сначала, сказала, что ей на работе сотрудница дала молитву. С этими словами прошла в спальню и принесла сложенный в четверть листок. Были в нем слова «…Отъиди бес нечистый, дух проклятый, на сухiя древа, на мхи и болота, там твое житiе-пребыванiе, там оставайся, а не в рабе Божией (имя речi)». В заглавии было «Заговор от порчи». Это же не молитва, сказал Иван. Марта извинительно и устало улыбнулась, пожала плечами:
– Ну да, не молитва… Можно я пойду и прилягу?
– Конечно, милая.
Когда она ушла, он прибрал на столе и вышел курить на крыльцо, налегке, без верхней одежды. Запалил в задумчивости сначала одну, потом вторую сигарету, выпуская густые облака дыма, оглядывая сверху свой большой двор, крыши ближних домов села, всматриваясь в сизую даль, где под черным паром были его поля. День только начинался, и он, не привыкший ни на минуту к покою, не зная, чем и как себя теперь занять, решил сходить туда, чтобы проверить, который уже раз, как созревает земля для боронования под яровые. Он зашёл в дом, одел куртку и сапоги, и пошёл по улице. Сельчане тоже давно были на ногах, возились по хозяйству, и он то и дело здоровался с кем-то, кивал головой, но не останавливался для досужих разговоров, идя к своему полю, по-прежнему занятый думами о Марте, ловя себя на мысли, что в последнее время всё чаще старался бывать меньше дома, чего не было никогда, чтобы быть одному, не видеть уставшее, измученное лицо Марты. Его не без оснований пугал её вид, боязнь, что жена скоро будет на грани помешательства, и для себя твёрдо решил, что как только закончит основные весенние полевые работы, поговорит с Мартой о приёмном ребенке. Не покидала его память и о давнишнем с отцом разговоре, в котором старик искренне радовался, что у него сын, есть кому передать нажитое. «Я кому оставлю моё огромное хозяйство, дело, которым занят? Что станет с ним?.. Отец построил дом и был счастлив, а вдвойне, что оставил дом для меня. Я живу теперь в его доме, и это мой дом. А кто будет жить в нашем милом, добром доме после?..» – думал Иван, скоро шагая под шуршание резиновых подошв по песку-гравию просёлка.
После мартовской нескончаемо переменчивой погоды – ветров и морозных утренников – наступили погожие апрельские дни, солнце поднималось всё выше, и почва начала потихоньку прогреваться. Иван окинул взглядом поле. По времени уже было начать обработку почвы, потому что пробилась первая сорная трава – мятлик и ежовник. Иван взял в ладонь горстку земли, сильно сдавил в кулаке так, что превратилась в комок, и уронил. Комок рассыпался. «Да, пора! – вслух подтвердил Иван. – Сырость почти вся ушла, на неделе можно начинать». Он, довольный хотя бы этим, повернул назад.
Викулов уже подходил к дому, как навстречу попалась старуха Козырева. Старуха, как старуха, но не совсем такая, как другие старухи, потому как с виду обычная, жила все же непривычно. Водился за нею грешок – она не просто выпивала, но была запойной, тогда словно кто-то невидимый срывал с неё покров благообразия, её прорывало, без умолку болтала, неся что ни попади, а то и вовсе чудила. И обращались к ней не по имени-отчеству, не фамильярничая даже, а прозвищем – Кена. Пристало оно к ней из-за того, что из живности у неё была всегда только одна коза, даже когда меняла её, то у новой козы кличка оставалась прежней – Кена. Так и прилепилось к самой хозяйке: Кена. Была она одинока, односельчане относились к ней по-разному: кто-то посмеивался-подтрунивал, кто-то жалел, а кто-то откровенно стеснялся ее присутствия и сторонился, но для всех встреча с нею не была особенно желанной. Иван исключением не был. Он с детства знал Козыреву, помнил приписываемые ей слова, фразу, ходившую среди сельчан: «Каждый человек одинаково умный и дурак, вот и все вы не умнее меня будете». Многие повторяли частушки, которые она либо сама сочиняла, либо где-то слышала, вроде такой, когда однажды стала петь после того, как ездила к кому-то в Ленинград:
По их Питеру гулять, -
воды по колено;
питерского целовать,-
брать с собой полено.
Ивану с детства запомнилась другая:
Слушайте меня, ребята.
нескладушку буду петь:
на дубу свинья пасется,
в бане парится медведь.
Вот и теперь, завидев Ивана, Кена – сутулая, со сморщенным личиком, повязанная поверх головы пестрым платком, шаркая калошами, подошла к нему и вдруг запела:
Я по полюшку гуляю,
мне в деревне тесно;
Хоть и мало я пою,
зато интересно.
Он отстранился от неё, попытался уйти, но она неожиданно схватила его за полу куртки и сказала:
– Что бежишь? Думаешь, как и все, что Кена дура! А ты так не думай. Надо уметь иной раз остановиться, оглядеться, послушать, глядишь: что-то новое узнаешь, чего в спешке не замечаешь.
Пьяной Кена не была, – так ему сначала казалось. Да и взгляд у неё вдумчивый, глаза ясные. Он остановился и сказал:
– Я так и не думаю.
– Знаю, ты славный парень! Разве мог быть другой у Викулы. Хороший был мужик. Было время, меня с ним даже дразнили: жених и невеста… – Она что-то вспомнила и в ней вдруг снова взыграла привычное веселье, совсем не старушечье озорство. Она лихо пропела:
Меня матушка любила,
и папаша нежил;
но как поздно задержусь,
хворостины держат.
Викулов снова хотел уйти, но она остановила его, улыбнулась дружелюбно, продолжала уже просто и спокойно:
Николай Вингертер
"Аисты" – книга повестей и рассказов Николая Вингертера, читателю знакомого по романам "Душегуб", "Загадка Бернулли, или Закулисье "Спортлото", "Варлам Пчела".
В сборник включены повести и рассказы разных лет, ранее опубликованные в периодической печати. Это развёрнутые социально-психологические этюды жизни современного человека, когда нечто подобное происходит у нас на глазах почти каждый день, а отношения людей друг к другу , их судьбы, складываются из противоречивых чувств; но, в конечном счете, многое зависит от них самих.
Николай Вингертер
АИСТЫ
АИСТЫ
(рассказ)
Дом Викуловых стоял далеко на отшибе села, но выселками это место никто не считал, к нему даже шла отдельная дорога, выложенная бетонными плитами, а двухэтажный дом и большой двор, окруженные со всех сторон фруктовыми деревьями, со стороны выглядели как зажиточное поместье. По сути это было крестьянское, фермерское подворье площадью с футбольное поле, где имелись и добротные хозяйственные постройки: амбар, сараи и вольеры для живности, навес для парковки разной техники. Жил здесь сам хозяин Иван Викулов и его жена Марта. Среди местных считалось, что богаче них в селе нет, но никто не завидовал, как часто бывает среди людей, потому как знали, что достаток Викуловых был у Ивана, во-первых, от отца, построившего этот дом, во-вторых, благодаря трудившимся «не покладая рук с утра и до ночи» самим Ивану и Марте, которые лишь в самые напряженные дни уборки урожая прибегали к найму сторонних работников, и тех никогда не обижали, честно платили за работу. Иван и Марта удивительно походили друг на друга, словно были брат и сестра. Он, высокий блондин с правильными, волевыми чертами лица и добрыми глазами радужкой цвета синих ирисов; она, ему под стать, с русой косой и серо-голубыми выразительными глазами, в сиреневой тени ресниц которых можно было порой видеть затаившуюся печаль.
Повстречались они и узнали другу друга во время учебы в сельскохозяйственном техникуме, где он осваивал механику, она ветеринарное дело. Никто из их окружения и не сомневался в том, что они должны быть вместе, созданы друг для друга. Марта, выросшая, как и Иван, в селе, приняла его предложение, они создали семью и стали жить в доме его отца, у которого он был поздний и единственный. Старший Викулов, давно овдовевший, был несказанно рад появлению в его доме хозяйки, стал ждать новое поколение Викуловых, и однажды, – а было это еще пять лет назад, во время одного из тихих вечерних семейных ужинов, любуясь молодыми, – сорвалось у него с языка, о чем постоянно думал:
– Мои дорогие, не откладывайте с детишками, как это теперь модно-принято. Дети – благодать божья! Мартушка, – так он сразу стал нежно обращаться к невестке, – уж ты прости меня, старого, за нескромность, даже фривольность, но не зря ведь ещё в старину говорили, что до замужества, девка – это одно дело, но после – «Бабёнка должна быть с ребёнком».
Молодые после его слов растерялись, щеки Марты пошли густым румянцем, Иван, опешивший поначалу, спохватился:
– Отец, ты с ума сошёл! Что такое говоришь? Разве так можно? И потом, Марте предложили место старшего зоотехника в соседнем агрокомплексе. Должен понимать, что работа серьезная, ответственная, возможен рост.
Старик закашлялся и сказал:
– Понимаю, сболтнул лишнего. Так получилось. Прошу прощения! – Было видно, как он смутился своей же смелости и откровенности с невесткой, которую в сущности мало знал, но каким-то шестым чувством человека долго живущего и простого, не привыкшего к сантиментам, видел в ней ум и понимание. И он не ошибся.
– Папа (Марта с первых дней стала так обращаться к Викулову старшему), всё верно говорите. Я сама так думаю. Действительно, как без дитя. – Она повернулась к мужу: – Тебе замечу вот что, когда рожу дитя, после этого разве перестану быть старшим зоотехником. – Она на мгновение задумалась и хитро улыбнулась: – Лошадь после того, как принесёт жеребёнка, разве перестаёт быть лошадью, она также продолжает работать, а жеребенок растет. Думаю, ничего нового не открываю. Материнство – оно важно и нужно, но и женщина должна чего-то в жизни достигнуть, а не превращаться в пожизненного раба своего дитя.
Её слова приятно удивили старика, он, несмотря на больные ноги, словно по стойке «смирно» вскочил, вышел из-за стола, приковылял к Марте и обнял ее:
– Иван, сын! Ты слышал? Да Марта умнее нас с тобой! Доченька, дай Бог тебе здоровья и счастья! – Он прослезился. – Я ведь вот еще что сказать хотел очень важное, раз такой получился разговор. Книжек в своей жизни немного я прочитал, всегда было некогда, работа и работа. Теперь, к концу жизни, как-то пришло мне в голову взять Святую книгу, которая всегда лежала у жены в комоде. И знаете, дорогие, что меня сильно впечатлило, – слова, которые вроде сам знал и понимал, но это одно, другое дело – увидеть их в книге. – Он вышел и вернулся с небольшого размера книгой Библии, раскрыл закладку и стал читать подчеркнутое карандашом из Екклесиаста: – «Труд мой, которым трудился, должен оставить человеку, который будет после меня. И кто знает, мудрый ли он будет или глупый. А он будет распоряжаться всем трудом моим, которым я трудился. Так иной человек трудится всю жизнь со знанием и успехом, а оставляет всё человеку не трудившемуся. И это суета и зло великое».
Старик положил на стол Библию, но не перекрестился, как принято в таких случаях, – он не был воцерковлённым, не знал ни Таинств Покаяния и Причастия, ни другой церковной атрибутики, нужной и важной для истинно верующих, – а Викулов-старший, передохнув, произнёс сакраментальное, но весомое:
– Я очень счастлив, что труд своей жизни могу оставить сыну, достойному, воспитанному в уважении к труду. И я очень-очень желаю вам, чтобы и вы могли когда-то также, с большой радостью, оставить дела рук своих вашим детям…
Прошёл после того памятного дня год, потом еще год, и еще. Иван успешно вёл хозяйство, у Марты удачно складывалась карьера в крупной аграрной фирме. Но старший Викулов так и не дождался внуков. Он больше не затевал прежний разговор о наследниках, но в минуты слабости, огорчаясь, только твердил, что виной всему сам, наверное, ведь и у него сын появился, когда дожил чуть не до пожилого возраста; так, похоже, на их роду написано. После ухода отца, возникшая в доме пустота, тяжело переживалась Иваном и Мартой. У них было перед отцом какое-то патриархально-первобытное чувство вины, которое почти не встречается среди современных людей, что не оправдали его надежды, так и не успели подарить радость общения с внуком или внучкой. Трудно было обоим скрыть это настроение, чтобы не травмировать друг друга, потому что сильно любили друг друга, жалели друг друга. И они, как муж и жена, старались изо всех сил исправить положение, и не было предела в том их молодой страсти и желания. Но время шло, а ничего не менялось. Недоуменно разводили руками и врачи, не находя ни у одного препятствий к рождению ребенка. Весной особенно обострялось чувство горькой реальности, с которой столкнулись, усиливалось осознание какой-то пустоты жизни и потеря веры в то, что исполнится их мечта. У Марты, когда в природе все пробуждалось, а она сама, как в наказание, носила имя с названием первого месяца весны, невольно усиливалось желание материнства. Как у зоотехника, прямо участвующего в создании ею самой условий для возникновения новой жизни у многочисленных подопечных на фермах, а потом наблюдающей появление их детенышей на свет, её сознание в такие минуты просто ломалось под наплывом чувств, которые не могла скрыть. И она, придя домой, часто не поужинав, уходила в спальню, просила ее не тревожить, закрывала шторы, чтобы не было света, укладывалась в постель, накрывшись с головой, чтобы не было слышно никаких звуков, старалась забыться сном. Но сон приходил редко, чаще возникал становившийся всё навязчивее страх, и она страдала бесконечно от не дававших покоя мыслей, что женщина она «пустая», грешна в чём-то и это её наказание, но в чём, не знала и не могла объяснить. Появилась и боль физическая – мигрень, от которой начинала страдать ночь напролёт, не находя себе места ни в развороченной от припадков болезни постели, ни, когда уставшая, в холодной поту, садилась на край кровати, уставившись безмолвно в угол комнаты, или вставала и стояла подолгу перед распахнутым настежь окном, покуда её не отрезвляли пронизывающий холод и сырость зимней ночи. И рождались в такие минуты в её сознании мысли самые невероятные, какие у человека появляются от безысходности и отчаяния. Она, никогда не обращавшаяся к религии, не только начинала вспоминать всех богов, выдуманных человечеством, от Будды, Митры, Зевса или Христа, но впадать в анимизм, вспоминать, какие слышала приметы, гадания на зачатие ребенка; и начинала вдруг строить планы на предстоящий летом отпуск, чтобы съездить в монастырь, молиться у одного из известных списков иконы Матери Божьей, потом поехать обязательно на Кавказ, где, как рассказывали, есть быстрая река, в которую на рассвете сначала нужно войти для омовения, затем подняться на гору и просить себе у солнца дитя. Всё это видел и слышал Иван (Марта и не скрывала), понимавший, что так дальше продолжаться не может.
Викулов, всегда бывший в работе, отдых себе позволял только в воскресенье, которое любил, наслаждаясь домашним покоем и уютом, спокойным общением с любимым человеком за завтраком, – казалось, ничто не могло отменить эти редкие часы для обоих, ставшие хорошей привычкой, – но всё изменилось вместе с поведением Марты в последнее время. Теперь для него прежде чудесные воскресные утренние часы, когда оставался дома, превратились в тяжелое испытание. Завтраки готовил сам, а приготовив, не мог дождаться Марты, которая, как ему казалось, словно нарочно задерживалась, хотя (он знал) уже давно встала, была одета, но была занята одним и тем же – безмолвным стоянием у окна со своими мыслями, что-то высматривающая на улице. Вот и сейчас она не спешила в столовую, несмотря что два раза звал её, а на столе остывали яичница, для нее сваренная каша, и заваренный кофе. Он встал и подошел к дверям, чтобы снова её позвать. В этот раз, лишь приоткрыв дверь, услышал, как Марта что-то вполголоса читает, держа перед собой листок бумаги. Он не стал её отвлекать, дождался пока положила листок на тумбочку у изголовья кровати. Она вышла, молча уселась за стол, принявшись за еду, и через время попросила её извинить, что заставила ждать. Повторялось такое уже не первый раз. Марта стала другой, но все равно его самым дорогим и любимый человеком, для него по-прежнему открытым, ласковым и ничего от него не скрывающим. Он спросил, что она читала. Марта, застеснявшись сначала, сказала, что ей на работе сотрудница дала молитву. С этими словами прошла в спальню и принесла сложенный в четверть листок. Были в нем слова «…Отъиди бес нечистый, дух проклятый, на сухiя древа, на мхи и болота, там твое житiе-пребыванiе, там оставайся, а не в рабе Божией (имя речi)». В заглавии было «Заговор от порчи». Это же не молитва, сказал Иван. Марта извинительно и устало улыбнулась, пожала плечами:
– Ну да, не молитва… Можно я пойду и прилягу?
– Конечно, милая.
Когда она ушла, он прибрал на столе и вышел курить на крыльцо, налегке, без верхней одежды. Запалил в задумчивости сначала одну, потом вторую сигарету, выпуская густые облака дыма, оглядывая сверху свой большой двор, крыши ближних домов села, всматриваясь в сизую даль, где под черным паром были его поля. День только начинался, и он, не привыкший ни на минуту к покою, не зная, чем и как себя теперь занять, решил сходить туда, чтобы проверить, который уже раз, как созревает земля для боронования под яровые. Он зашёл в дом, одел куртку и сапоги, и пошёл по улице. Сельчане тоже давно были на ногах, возились по хозяйству, и он то и дело здоровался с кем-то, кивал головой, но не останавливался для досужих разговоров, идя к своему полю, по-прежнему занятый думами о Марте, ловя себя на мысли, что в последнее время всё чаще старался бывать меньше дома, чего не было никогда, чтобы быть одному, не видеть уставшее, измученное лицо Марты. Его не без оснований пугал её вид, боязнь, что жена скоро будет на грани помешательства, и для себя твёрдо решил, что как только закончит основные весенние полевые работы, поговорит с Мартой о приёмном ребенке. Не покидала его память и о давнишнем с отцом разговоре, в котором старик искренне радовался, что у него сын, есть кому передать нажитое. «Я кому оставлю моё огромное хозяйство, дело, которым занят? Что станет с ним?.. Отец построил дом и был счастлив, а вдвойне, что оставил дом для меня. Я живу теперь в его доме, и это мой дом. А кто будет жить в нашем милом, добром доме после?..» – думал Иван, скоро шагая под шуршание резиновых подошв по песку-гравию просёлка.
После мартовской нескончаемо переменчивой погоды – ветров и морозных утренников – наступили погожие апрельские дни, солнце поднималось всё выше, и почва начала потихоньку прогреваться. Иван окинул взглядом поле. По времени уже было начать обработку почвы, потому что пробилась первая сорная трава – мятлик и ежовник. Иван взял в ладонь горстку земли, сильно сдавил в кулаке так, что превратилась в комок, и уронил. Комок рассыпался. «Да, пора! – вслух подтвердил Иван. – Сырость почти вся ушла, на неделе можно начинать». Он, довольный хотя бы этим, повернул назад.
Викулов уже подходил к дому, как навстречу попалась старуха Козырева. Старуха, как старуха, но не совсем такая, как другие старухи, потому как с виду обычная, жила все же непривычно. Водился за нею грешок – она не просто выпивала, но была запойной, тогда словно кто-то невидимый срывал с неё покров благообразия, её прорывало, без умолку болтала, неся что ни попади, а то и вовсе чудила. И обращались к ней не по имени-отчеству, не фамильярничая даже, а прозвищем – Кена. Пристало оно к ней из-за того, что из живности у неё была всегда только одна коза, даже когда меняла её, то у новой козы кличка оставалась прежней – Кена. Так и прилепилось к самой хозяйке: Кена. Была она одинока, односельчане относились к ней по-разному: кто-то посмеивался-подтрунивал, кто-то жалел, а кто-то откровенно стеснялся ее присутствия и сторонился, но для всех встреча с нею не была особенно желанной. Иван исключением не был. Он с детства знал Козыреву, помнил приписываемые ей слова, фразу, ходившую среди сельчан: «Каждый человек одинаково умный и дурак, вот и все вы не умнее меня будете». Многие повторяли частушки, которые она либо сама сочиняла, либо где-то слышала, вроде такой, когда однажды стала петь после того, как ездила к кому-то в Ленинград:
По их Питеру гулять, -
воды по колено;
питерского целовать,-
брать с собой полено.
Ивану с детства запомнилась другая:
Слушайте меня, ребята.
нескладушку буду петь:
на дубу свинья пасется,
в бане парится медведь.
Вот и теперь, завидев Ивана, Кена – сутулая, со сморщенным личиком, повязанная поверх головы пестрым платком, шаркая калошами, подошла к нему и вдруг запела:
Я по полюшку гуляю,
мне в деревне тесно;
Хоть и мало я пою,
зато интересно.
Он отстранился от неё, попытался уйти, но она неожиданно схватила его за полу куртки и сказала:
– Что бежишь? Думаешь, как и все, что Кена дура! А ты так не думай. Надо уметь иной раз остановиться, оглядеться, послушать, глядишь: что-то новое узнаешь, чего в спешке не замечаешь.
Пьяной Кена не была, – так ему сначала казалось. Да и взгляд у неё вдумчивый, глаза ясные. Он остановился и сказал:
– Я так и не думаю.
– Знаю, ты славный парень! Разве мог быть другой у Викулы. Хороший был мужик. Было время, меня с ним даже дразнили: жених и невеста… – Она что-то вспомнила и в ней вдруг снова взыграла привычное веселье, совсем не старушечье озорство. Она лихо пропела:
Меня матушка любила,
и папаша нежил;
но как поздно задержусь,
хворостины держат.
Викулов снова хотел уйти, но она остановила его, улыбнулась дружелюбно, продолжала уже просто и спокойно: