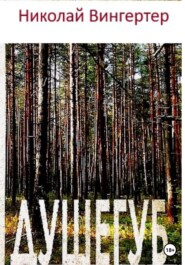По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Аисты
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Рассветает по-зимнему поздно. Непогода передается настроению прохожих, и они, как пингвины, идут друг за другом, понурив головы, и, кажется, не видят ничего, кроме башмаков, идущих впереди. Не замечают они и старую попрошайку, которая уныло смотрит на стоящую перед нею пластмассовую кружку.
Уже полчаса она тихо мерзнет под шарканье подошв и беззвучное круженье снежинок, но даже из любопытства никто не приостановится, не посмотрит в ее сторону. А посудина так и остаётся с пустым дном.
Старуха одета в искусственную, со свалявшимся и затертым мехом шубу, поверх которой крест-накрест повязана изъеденная молью шерстяная шаль. В разбитые полусапожки заправлены мужские брюки. Обувь ей тесна, у нее мерзнут ноги, и она часто сучит ими, пытаясь согреться. От долгого и однообразного сидения ее клонит в сон. Старуха смежает веки, медленно роняет на грудь голову и всхрапывает… Неожиданно в ее сторону делает шаг девочка-подросток, и в кружке запрыгала и легла вверх решкой первая монета. Старуха сначала благодарно крестится, потом переводит взгляд на монету. "Решка! Плохое начало", – думает она лениво.
Словно угадав ее мысли, к кружке снова долго никто не подходит. Старухе кажется, что у нее уже промерзли не только ноги, но и мозги. Они не хотят думать. А и думать ей не о чем. "Только бы до вечера набрать на "красненькую", – донимает единственная мысль.
При воспоминании о вине ее лицо светлеет, а потом на нем появляется улыбка, похожая на гримасу. Вино ей поможет дожить и этот день, как многие другие, снимет противное нытье в суставах, и скулы перестанут болеть. Боль терзает уже четвертые сутки, как зубная, хотя зубов у нее почти нет, если не считать два догнивающих верхних резца. Но до нужной суммы еще далеко… Кружка чаще "молчит", лишь изредка позвякивает металлом. Она снова опускает голову и сильнее втягивает ее в плечи, спасаясь от мороза.
За многие годы бродяжничества и пьянства ее память так одряхлела, что старуха уже и не помнит толком, кто она и откуда. Обрывки воспоминаний подсказывают, что она Линда, что когда-то была скромной сельской девушкой с большой светлой косой, а отца звали Йонас. Картины того времени окрашены в зеленый цвет. Перед глазами всплывают и душистые липы, и возвышающийся над ними купол костела, а за ним, под горой, мягкие волны Нямунаса. Потом память окрашивается в цвет выгоревшей под солнцем степи, где она оказалась против своей воли, где много и долго работала, но зачем, для чего и для кого – не знала. Понимала только, что несправедливо, незаслуженно оторвана от родных мест. Когда окончилась война, освободили, но домой не пустили. Снова работать, пусть и для себя, – не захотела. Решила, что имеет право на отдых. Но он затянулся. Нашлись люди, с которыми казалось хорошо. За пышные, янтарные волосы и большие, слегка навыкат, глаза ее прозвали Русалкой. Это прозвище так и осталось с нею до старости. А потом были суды за бродяжничество, мелькали вокзалы, случайные встречи, спецприемники, окрасившие остальную память в черный цвет… И лишь изредка, словно просветы при переворачивании ее черных страниц, – светлая зелень лип, костел и хор мальчиков… Последнее время их голоса иногда звучат в ушах, проникая в очерствевшее сердце, и оно начинает учащенно биться, когда из далекого детства, вместе с плывущим над Нямунасом колокольным звоном, доносится торжественное: "Cristus natus est nobis, adoremus Domino" ("Христос родился ради нас, восславим Господа". Лат.) Рождественской литургии… Она засыпает под нее, забываясь крепким сном праведной грешницы. И видится ей синий бархат ночного неба над спящим городом, а по бархату сверкающими нитями нашито множество серебряных звезд. Вдруг одна из них отрывается и падает, падает и кричит: "Помогите! Я Линда, я же Линда!.. "
Просыпается старуха от резкого металлического звука. Она протирает глаза и не верит им. Среди медяков и редких белых монеток лежит железный рубль. Поднимает голову и видит перед собой хмельное лицо.
– Чё, бабка, думаешь, все жмоты? – толстяк, покачиваясь ванькой-встанькой, задрал полу шубы и стал копаться в кармане. Вытащил рублевую бумажку и тоже бросил в кружку: – Сегодня, бабка, праздник, Рождество. Гуляй!
"Рождество! Хор мальчиков, как это я забыла, – думает она. – Ах, добрый толстяк! Все толстяки добрые, особенно пьяные. Тогда они совсем глупы и порой даже не могут отличить старуху от молодой. В прошлом году один пьяный толстяк предложил ей за целых десять рублей…» Ее забавляет это воспоминание, она смеется провалившимся ртом, но захлебывается, и смех переходит в гнусавый, с хрипотцой, кашель.
2.
После темного перехода белый снег резко ослепляет, и старуха какое-то время стоит, прикрыв ладонью глаза. Потом достает платочек с завязанными в него рублями и горстью мелочи, еще раз все пересчитывает, удовлетворенно качает головой и идет дальше.
Снегопад закончился. По небу плывут грязно-серые клочья туч, между которыми иногда проглядывает низкое зимнее солнце. Густым, пышным снегом завалило весь город. И кажется, что на крыши домов, машин, на кроны деревьев нахлобучены громадные белые шапки.
На крыльце винного магазина колышется черная, взъерошенная толпа. Старуха, не обращая внимания на ее гвалт, привычным движением ноги открывает дверь подсобки. Приняв из рук знакомого грузчика бутылку, она заботливо укладывает ее на дно холщовой сумки.
Вечереет. Небо почти очистилось, из его бездонной сини на земле льется мороз. Линда спешит к Старому рынку. Там, в заброшенной, но сухой пристройке, которая постоянно подогревается вытяжной вентиляцией павильона "Национальные блюда", нашла себе пристанище.
Скользко. Люди уже утоптали снег, и он покрылся коркой льда. Второпях старуха оступилась и упала навзничь, сильно ударившись правым боком о камень бордюра. Вздыхая и охая от резкой боли, она поднимается и подтягивает к себе отлетевшую сумку. Под сумкой на снегу красное пятно. Старуха испуганно хватается за бок. Но, кажется, он в порядке. Тогда она начинает рыться в сумке…
Ее крик оглашает улицу. Прохожие от неожиданности оборачиваются и видят посредине тротуара на коленях бродяжку, прижимающую к груди разбитую бутылку и голосящую, словно хоронит родное дитя. С бутылкой разбилась и ее надежда на несколько часов забвения, которое приносит вино. Теперь ночью в грязном, заброшенном углу встретят ее бессонница и мучительное ожидание нового дня. Бормоча посиневшими губами невнятное, мелкими шажками, обессиленная, она бредет к себе.
Дверь поддается с трудом. Ее встречает чернильная тишина. Она уже собирается улечься на сваленное в угол тряпье, как вдруг ловит чей-то затаенный взгляд. Старуха испуганно отскакивает в сторону, сильно ударяется головой о низкую притолоку, падает, в голове шумит, чужие глаза к ней приближаются.
– Русалочка, ты что ль? Приплыла, не захлебнулась еще?
Молодая сильная рука за ворот шубы легко отрывает ее от пола, и старуха видит перед собой безобразную Зинку-толстую, которая за пять рублей обслуживает на рынке торговцев с юга.
Молодуха, раскрывая широко рот с толстым, как у обезьян, надгубьем, дышит ей в лицо луком и кислым пивом.
– Когда сдохнешь, старая?
Старуха пытается вывернуться, но хватка на «загривке» крепкая. Тогда она жалобно просит:
– Зиночка, я ночую здесь уже месяц. Пусти меня, Зиночка. Это мое место.
– Чё ты сказала? Твое место?! – захохотала та, сотрясая вместе с собой Русалочку. Потом сложила левой рукой кукиш и ткнула его старухе. – Вот тебе! Ты чё, купила его? Я покажу твое место…
Она волоком подтащила старуху к дверям, распахнула их и пнула старую бродяжку.
Русалочка повалилась на грязный, затоптанный снег. Стала шарить вокруг себя рукой. Но сумки не было. Она встала и подошла к дверям.
– Зина, отдай сумку.
Дверь не отворялась. За нею только хихиканье Зинки-толстой и жиденький мужской басок.
Старуха прислонилась к стене и тихо заплакала.
"Не зря во сне падала звезда, не зря, – думает она. – Видимо, отжила свое".
А ночь надвигается по-зимнему рано. Старуха напряженно всматривается в темноту своими рыбьими глазами. Темнота сегодня ее непривычно пугает. Она часто крестится и, как многие, когда им плохо, шепчет сухими, обветренными губами имя Христа. Мороз все усиливается. Она плотнее кутается в свои одежки, затягивает крепче концы шали и идет искать приют.
3.
Город окутан темно-синей ночью. На улицах горят редкие фонари, и из-за сильного мороза над ними висят светлые столбы, которые уходят высоко вверх и, кажется, касаются громадины апельсиновой луны, словно приклеенной к черному горизонту.
Все известные Русалочке места для ночлега заняты. Покружив по городу, она устало падает на заснеженную скамейку, стоящую на безлюдной автобусной остановке. Стужа одолевает ее. Она поджимает под себя ноги, соединяет рукава, съеживается и становится похожей на нахохлившегося от холода воробья. Но так долго сидеть невозможно. В правом боку, которым ударилась, что-то словно лопается. Старуха охает, валится на скамейку боком и зажмуривается с мыслью, что умирает. Но проходит несколько минут. Внезапно поднявшийся ветер бросает ей в лицо пригоршню снега. Она открывает глаза и напротив видит все тот же заваленный снегом городской сквер и молочный свет фонаря, освещающего остановку. А боль в боку то утихает, то вновь усиливается.
В ее окоченевшем сознании теплится единственное: "Куда идти?" Вдруг она вспоминает, что можно проехать в приемник-распределитель для бродяг и самой сдаться милиции. "Что с того, что на время потеряю свободу, – вяло думает она. – Зато сейчас там тепло и дадут горячего". Мысль о теплом помещении волнует ее. Старуха через силу поднимается и садится в автобус. Выходит она на городской окраине. На нее сразу же голодным зверем набрасывается ледяной, колючий ветер. Кажется, что он проникает сквозь каждую ниточку одежды, отнимая последнее тепло у старого хилого тела. Идти ей почти два километра, и все на ветер, степью. Она прикрывает ладонью лицо, но, не видя дороги, спотыкается и падает. Встает и, нагнувшись вперед, медленно бредет, проваливаясь в снежные наносы. Временами силы совсем оставляют ее. Она отворачивается от ветра, чтобы перевести дыхание. Видит перед собой мерцающие вдали огни города. Они манят к себе. Но там она никому не нужна. И бродяжка снова идет к теплу и горячей похлебке, до которых уже недалеко, которые должны быть там, за чернеющей в снегу карагачевой рощицей.
А вьюга все злее и напористей. Снежные змейки поземки обвиваются вокруг ног старухи, лезут ей в лицо; резкий порыв ветра сбивает с головы шаль, и на морозе полощутся жиденькие седые волосенки. Старуха останавливается в изнеможении, старается натянуть шаль на голову, но ветер не дает, и она сначала приседает на корточки, а потом совсем садится в снег. Поправляет шаль, силится встать, но тело не слушается. Вновь начинает болеть бок. Она решает немного передохнуть, чтобы набраться сил.
Старуха отворачивается от ветра, пытается ладонью растереть нос и щеки, которых совсем не чувствует. Сидеть хорошо. От усталости слипаются веки. Через пять минут ей уже становится теплее. Теплом наливаются пальцы рук и ног, потом все тело. Жарко. Она уже неосознанно развязывает концы шали, сбрасывает с плеч шубу. Сладкая зевота растягивает ее губы. Очень хочется хотя бы немного поспать, и она медленно валится в снег… Сон приходит к ней сразу. Она снова видит зеленый луг за рекой, стайку лип и за ними, красные стены сельского костела, из окон которого слышны звуки торжественной Рождественской литургии… Вторя им, метель в ветках близких кустов карагача слагает свою грустную мелодию и наметает растущий на глазах снежный холмик на том месте, где спит старая попрошайка.
ОВЦЫ И ЛЮДИ
(рассказ)
1.
Есть в одном из глухих, забытых властью и богом, уголков российской Прибалтики – прошлом Восточной Пруссии – село Подъёлки. Там и случилось то, о чем до сих пор вспоминают и говорят местные, и не только.
В Подъёлках всего-то три двора, расположенных по одной прямой через примерно сотню метров; каждый в прошлом был самостоятельной усадьбой с домом довоенной постройки из красного кирпича, под красную черепичную крышу, и такими же капитальными хозяйственными строениями. Человеческие руки очень редко или совсем не прикладывались к ним последние десятилетия, чтобы поддерживать все это в должном виде. Поэтому дома и сараи имеют жалкий вид: крыши провалились из-за того, что черепица не перебиралась и, как следствие, просели сопревшие стропила; только стены, сложенные из хорошего кирпича под шов, по-прежнему выглядят внушительно и добротно. За поселком в прошлом действительно был еловый бор, поэтому кто-то недолго утруждал себя подысканием нового названия к бывшему прусскому поселению, и удачно дополнил топонимику местности таким красивым названием: «Подъёлки». Но еловый бор давно и бесхозяйственно вырубили; теперь все это пространство занимает подлесок из сорных деревьев и кустов – осины, мелкого березняка и боярышника, – польза от которых только в том, что их местные без конца рубят на дрова, а подлесок довольно быстро восстанавливается, да еще в нем много грибов, – любимого развлечения приезжающих сюда по выходным горожан.
В Подъёлках ранней весной поселился новый житель – Василий Мокшин, человек немногословный, шестидесяти лет, из отставных мичманов. Лицо у него было самое простое, даже немного грубое, и всегда красное, как обветренное, но запоминалось глазами, на первый взгляд тоже обыкновенными, с серым райком, однако каким-то неуловимым следом усталости, поэтому, добрыми и приветливыми. Сам он был невысок ростом, но телом еще очень крепок, и с большими увесистыми кулаками; на земле стоял, как многие моряки, всегда чуть расставив ноги, и это вызывало у посторонних невольно уважение и даже опасение. Он был давно один, разведясь с женой, не дождавшейся его из долгого похода, много лет назад. С тех пор не рискнул больше жениться, полагая, что из этого ничего путного, если не получилось сразу, – не получится; в этом его убеждала и каждая женщина, из бывших у него потом. Ни одна из них не стала родной и близкой, а рано или поздно становились для него такими же чужими, как любой посторонний человек, например, в городском трамвае. Детей у него не было, и, как для большинства таких мужчин, одиночество было самым трудным испытанием в жизни. Он стал считать себя человеком несчастным, справедливо как-то заметив, что счастье не в деньгах или славе, а такой простой вещи – когда тебя кто-то ждет. Мокшин мучительно и долго переживал свое одиночество, иногда ему казалось, что он уже свыкся с ним, но наступали часы, дни и ночи, когда оно терзало его душу такими невозможными страданиями, как при тяжелом физическом недуге, что он не знал, чем заняться, куда податься. Днем он не мог дождаться, когда настанет вечер, он уснет, и так пройдет ночь; но наступала ночь и бессонница, и он теперь уже нетерпеливо ждал утра, чтобы быстрее встать, и что-то делать, чем-то заняться; и весь мир из-за этого казался ему бесконечной пыточной камерой, так что порой даже не хотелось жить.
Именно в такое мгновение, когда он вышел на пенсию, и осел бобылем в однокомнатной городской квартирке, к нему пришло необычное решение – продать ее, уехать из города, который еще больше усиливал чувство одиночества, и поселиться ближе к природе. Это означало для него самое главное: хотя бы какую-то деятельность, хлопоты на ближайшее будущее. Он продал квартиру и выкупил в одном из коммерческих банков закладную, под которую некий селянин по фамилии Урбан из Подъёлок, заложил под денежный кредит половину дома, да так и не расплатился; банк был вынужден продать его дом.
Первый раз Мокшин увидел дом зимой, тогда его крыша была покрыта слоем пушистого инея, вокруг стояли такие же белые деревья, контрастировавшие с ярко голубым морозным небом и натоптанными местными жителями сизыми паутинками тропинок. Дом ему показался величественным, похожим на сказочный терем. Теперь, в конце марта, месяце распутицы и хлябей небесных, когда Мокшин приехал в Подъёлки на изрядно поношенном «Форде» с разной домашней утварью, дом в густой и сырой пелене тумана уже не был сказочным, напротив, казался мрачным сооружением, какие любят показывать в фильмах-ужасов. Ощущение мрачности картины дополняли своим гортанным протяжным карканьем несколько ворон, раскачивавшихся на мокрых ветвях ясеней.
Мокшина это не смутило. Первым делом он громко хлопнул в ладоши, вызвав звук, похожий на выстрел; вороны тут же снялись с веток и, перестав горланить, перелетели на крыши соседних домов. «Так-то вот, – подумал Мокшин, – вместо вас заведу петухов». Он стал носить из машины в дом вещи, и за целый час рядом не появилось ни души, лишь мельком видел за занавесками окна второй половины дома, где, знал, живут старик со старухой, их любопытные лица. Мокшин съездил в город еще раз, и еще, и на машине и небольшом прицепе перевез все свое нехитрое имущество, которое заранее приготовил в узлах, мешках, или упаковках разобранной по частям мебели.
Началась его новая жизнь. С утра до вечера в течение недели он мыл две комнаты и кухню, переклеивал обои, сдирал старую краску и красил заново окна и двери, – создавая жилой дух в доме, уповая на то, что это временное улучшение, только начало, а летом примется и за подвал, и крышу, и двор капитально. За эту же неделю он узнал и остальных жителей села. Своих соседей по дому старика и старуху Новиковых. Живущих в доме слева от его дома многодетную семью тракториста по фамилии Сирота. Живущих в доме справа от его дома в первой половине немолодую вдову Валю Мишину, во второй половине Михаила Сторожева – пожилого и тоже одинокого, работавшего ветеринаром в центральном селе Красное, что лежало в двух километрах от Подъёлок.
В первых числах апреля низкие облака разогнал сухой южный ветер. Потеплело. Вышло долгожданное солнце, и под его яркими лучами неказистые Подъёлки снова похорошели, словно их кто-то подновил.
Мокшин, соскучившийся по общению с людьми, простой и добрейший человек, которого его долгое одиночество не сделало эгоистом, для которого большой радостью было всегда помочь кому-то и поделиться с кем-то – качество ныне редкое в людях – решил, что в деревне не должен жить нелюдимо, а первым делом познакомиться с соседями, поэтому в субботу пригласил их на обед. У него в доме не хватало места усадить всех рядом, и он сколотил из досок две лавки, стол, накрыл его прямо на улице.
Первыми пришли Павел и Вера Сироты, вежливо поздоровались с Мокшиным и осторожно присели на краю лавки. Павел был в спортивных брюках и футболке с короткими рукавами; Вера в простом ситцевом платье и кофточке, поверх головы у нее был повязан узлом на затылок, платок. По ним было видно, что они не так часто бывают в званых гостях, больше привычны к простому, без условностей этикета, быту; обстановка для них была в новизну, заметно чувствовали себя неуверенно. Это быстро проявилось, когда за стол сели старики Новиковы, и Вера, глянув на них, на заставленный закусками стол, непринужденно и наивно развела руками и сказала: