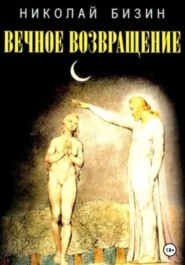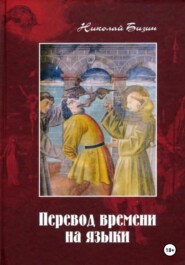По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Среда Воскресения
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
А потом начинается шторм!
Он напомнит еврейский погром,
Когда бесится море людья…
Тогда Илия Дон Кехана (оставшийся в прихожей – без своего земного сердца) присел неподалеку от брошенной калигулы на одно колено (внешне это выглядело не столь уж красиво, да все равно) и принялся разувать вторую ступню: согласитесь, было бы нелепо следовать за женщиной полуобутым. Даже если бы он сам (а не его сердце) собирался за ней последовать.
Сам он собирался от неё бежать. А вот его сердце (находясь в гостиной) сказало женщине:
– Я хочу уехать. Мне должно уехать.
Причем – сердце понимало, что никуда от женщины не денется.
А вот «бессердечный» Илия Дон Кехана (из своей прихожей) прекрасно слышал происходящее. Поэтому – ему была прекрасно видна её снисходительная улыбка (причём – к его сердцу в её плаще она всё ещё не оборачивалась); улыбка – с которой она, отвечая сердцу в плаще, произнесла:
– В Москву, где люди стреляют друг в друга? Обязательно уедешь, как может быть злая Москва без тебя? Но только завтра, сегодня я не могу без тебя.
После чего продолжила читать его будущий текст:
Я, с тобой на земле задержавшись,
Тете буду как светлый прибой!
Ты, со мной на земле задержавшись,
Будешь мне голубой горизонт.
Женщина не ведала, что творила. Женщина читала и сама заслушалась своим чтением, и даже поверила в такое свое будущее: что именно так для нее повернулась ее плоскость птолемеева глобуса! Но с Идальго всё обстояло иначе: сейчас одна его жизнь (сердце в плаще) слушала текст, в то время как его настоящая жизнь разулась (стала нагой и легкой) и продолжила за женщину.
Произнесла (вместо неё) совершенно иные строки:
Когда бьется о волны ладья,
Лишь кажется море просторным.
Но причина подобного шторма
В величинах огромных и малых:
Человек всегда больше толпы.
Он лишь кажется мерой вещей,
Но он мера вещей небывалых!
Когда бесится море людья.
Когда бьется о волны ладья.
Ибо тесно огромному в малом.
Мы спокойны в своем небывалом.
Его сердце (в её плаще) стояло у нее за спиной. Она не смотрела на его сердце, ведь она не расслышала Илию и всё ещё ждала его слов; но – всё это время Идальго (босой и легкий) прощался с ней, причем – особенным образом: оставаясь с ней своим сердцем! Потому что никаких расставаний нет вовсе.
И минуло еще сто лет, и ничего не минуло, а времени – словно бы не было!
Что есть время, если для Старика все наше вчера и завтра – даже не сейчас, а просто есть! И что есть мера времени, как не срок осознания только твоей мгновенной реинкарнации в твое «здесь и сейчас»? То есть – ты (настоящий ты) свободен от времени, которому отданы лишь маски гомункула. То есть – настоящий ты не протискиваешься в каждое конкретное мгновение, но – идешь меж всех мгновений.
Время Илии Дона Кехано стало свободным от него самого! Оно более не имело к нему отношения, тогда как он мог к нему отнестись: его время оставалось птолемеево плоским, но одно-(двух или трех)-временно его время вращалось вокруг своей оси. Причем – вместе с его временем вокруг своей оси вращалось все, что было его душой одушевлено.
Пророка Илию Дона Кехана не очень интересовала версификация «всего» мира – его в большей степени занимала версификация «его» мира (то есть России), посему – он немедленно к ней приступил: именно в этом «здесь и сейчас» именно это сердце в плаще готовилось встать перед женщиной на одно колено… И ведь как красиво могло получиться!
Кар-р!
Еще темно, еще покой-зерно
В прохладных закромах -
Не переиграно на белое вино!
И душу я не рву… Душа мне как рубаха,
Как тело есть рубаха для души!
А что же далее? Во что оденем тело?
Что будем рвать на звезды и гроши?
Ведь я не человек, нагое дело -
Нагая функция, и без меня пусты
Все одеяния жестокой простоты!
Я центр круга, вкруг меня душа
Танцует хороводами, вещами:
Высотами, глубинами, святыми
Пророками и Богом, и Россией…
Но знаю, что во мраке бытия
Есть ты, и вкруг тебя танцую я.
Кар-р! Но здесь потребуется небольшое (и с маленькой буквы) пояснение: