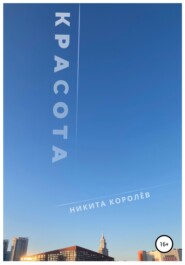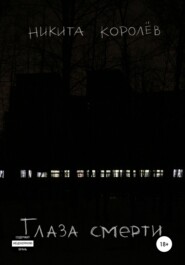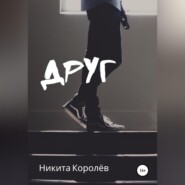По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
На кромке сна
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Сейчас реклама на «Первом канале», не переключайтесь, друзья, мы скоро вернемся! – встрепенувшийся, он скороговоркой перекрикивал музыку.
Зрительский зал ошалело переглядывается.
У съемочной группы была одна физиономия на всех – как у мамы с картины «Опять двойка». Константин Львович же своим выражением походил на отца, которого, видимо, из сострадания к потомкам художник оставил за кадром.
Панночка
Паня шел по воздушному переходу – на выход к улице Зорге. Над широкими окнами, за которыми из промозглого тумана сурово смотрели фабричные трубы, скелеты строек и черепки гаражей, висели какие-то салатовые вентиляционные решетки, абсолютно здесь неуместные. Иной раз, идя этим воздушным переходом, Паня мог миновать его весь, уставившись в плиточный пол. Но в одно окно он, хоть и мимоходом, но смотрел всегда. Там, прямо под опорами, в гаражном лабиринте был собачий приют. Вытянутый участок земли, а по его периметру – вольеры, устланные сеном.
Кажется, у каждой станции МЦК есть какая-то фишка. Только в отличие от станций метро она не в потолочных мозаиках и не в лепнине, которых, собственно, на станциях Центрального Кольца и нет, а в пейзаже за окном. И у станции «Зорге» этой фишкой был несмолкаемый лай, доносящийся снизу. Паня, шедший по переходу в своем глубокомысленном «бесцелье», отличался от людей вокруг не только непринужденностью своего шага. Он знал, откуда именно доносятся эти звуки.
Но если раньше они врезались в слух сразу после машущих дверей, ластились к смущенному своим с ними знакомством Пане (его что-то стыдило в том, что он знал лучше остальных прохожих, кто лает и откуда, был в какой-то постыдной связи с этими улично-грязными стенаниями, от которых иные люди затыкали слух наушниками и ускоряли шаг), то сейчас они были какими-то невнятными, будто разбегались от его внимания, как тараканы – от света фонарика в темной подсобке.
Подойдя к окну и немного поколебавшись, Паня посмотрел вниз – приюта там больше не было. Остался только пустырь, засыпанный не знавшим лопаты снегом, и какие-то железные перекошенные остовы, безмолвно насмехающиеся над самой возможностью нахождения здесь приюта.
Призрачные собаки еще несколько раз гавкнули, после чего звуки стихли. Паню кто-то легонько похлопал по плечу. Он обернулся – перед ним стояла Ева.
– Привет.
Паня не отвечал, растворенный в ее взгляде и даже не скрывающий этого. Она помахала рукой перед его глазами. Помогло.
– Привет.
– На что любуешься?
Паня только с несколько деланным смущением улыбнулся.
– Я имела в виду, до этого, – усмехнулась Ева. – Куда ты смотрел?
Паня еще раз взглянул вниз, на пустырь за рифленым забором, где был приют, но теперь как-то пустяково, и в той же манере сказал:
– Да так, воспоминания… Ну, как ты? Работаешь, учишься? Ой, я, может, тебя задерживаю?..
– Нет-нет, я так, просто гуляю. Дела в порядке, учусь, подрабатываю.
– Ну отлично. Слушай, может, уйдем отсюда? А то мы прямо на проходе стоим. Можем прогуляться немного, если хочешь, – Пане действительно хотелось поскорее отсюда убраться, но пекли его совсем не люди.
Ева встряхнула рукой, засучив рукав, и взглянула на часы. Исключительно по привычке, но Паня уже успел ощутить себя последним трутнем, кем почти всегда он и ощущал себя рядом с Евой. Его сильно удивило то, что она вот так просто, как и он, слоняется по улице, любуется миром. Это походило, скорее, на его фантазию о Еве, которой Паня у себя в голове умасливал ее жесткий, как проволочная мочалка, прагматизм.
– Да, давай – как раз, может, расскажешь, куда ты там так пялился.
Только на выходе из перехода Паня, все это время, казалось, мучительно озадаченный своими шагами, заговорил, прервав такую обычную для людей, давно привыкших говорить друг с другом лишь в своих грезах, тишину:
– Знаешь, у меня в детстве было очень много разных зверушек: хомячки, попугайчики, кошки, кролики, крысы, черепашки… Днем их славы, их простого животного счастья был день, когда мы их привозили домой, собирали клетки, отлаживали кормушки-поилки. Но все последующие дни становились днями их медленной гибели в грязных опилках, с тухлой водой в поилке, из-за неправильного расселения. Хомячки Карлос, Тереза и Кармен… Сначала их жизнь была Санта-Барбарой, но потом на них опустилась Варфоломеевская ночь. Самки жрали потомство, а самок жрал самец. Была еще крыса Бритни, которой мама то и дело подкладывала всякие объедки, отчего в опилках заводились черви, а крыса покрывалась язвами: ее изначально серебристая мягкая шерсть стала какой-то игольчатой и масляной. Я даже не помню, успели ли мы ее кому-то отдать до того, как она насмерть себя расчесала. Но зато я помню, что меня абсолютно не пекла судьба этих зверьков. Я помню свое холодное к ним безразличие, сменяющееся раздражением, а иногда, в моменты их расправ друг над другом, – кровожадной насмешкой.
У съезда с автомобильного моста, нависшего над путями МЦК, они свернули на улицу Алабяна, запруженную машинами и тяжело гудящую, перешли дорогу по подземному переходу и сейчас шли вдоль дряхлых, занесенных пылью домиков Поселка Художников, которые, казалось, отчаянно жались к своему зеленому и тихому нутру, словно дедушка, идущий по стенке за своей забытой ракеткой для бадминтона через спортивный зал, который уже ухает под реактивным мячом в ногах крепких резвых студентов.
– Можно вопрос? Зачем ты мне это рассказываешь? Что, у вас и там, в гаражах под переходом, кто-то страдал?
– Да нет… – соврал Паня, – Я тут просто понял, что… Я вот живу, стремлюсь куда-то, иногда хвалю себя, но так, на периферии мысли: какой я молодец, деньги зарабатываю, развиваю себя, поливая эксклюзивными мыслями, идеями. Но когда вспоминаю вот это… Я понимаю, что нет и никогда во мне не было самого главного: сострадания. Даже не любви, нет – простого сострадания. Мне было даже не плевать на этих несчастных зверей – чтобы это сделать, надо было хотя бы дойти до комнаты, где стояли их клетки, а я сидел в другом конце квартиры, играл в компьютер. И сейчас временами внутри меня раздается такой ледяной, уже даже без презрения, голос: в чем надо, ты себя уже проявил. Думаю, это он именно про них, про зверей говорит. В чем надо, я уже показал себя, а все остальное – красивые виражи, которыми я ухожу от вопроса, люблю ли я вообще хоть что-то. Эти виражи… Они становятся годовыми кольцами, как у дерева – слоями моей личности. Только вот слойка эта с протухшим мясом внутри. Именно… Именно поэтому я не мог тебе дать то, что было нужно… – Паня как бы от какой-то долго сдерживаемой чесотки быстро стал тереть ладони друг об друга, дыша на них жаром разгоряченного тела, не чувствуя касаний, а только какие-то мерзкие покалывающие надавливания. – Извини, пожалуйста, мы так давно не виделись, а я снова жалуюсь… Как твои дела? Чего нового? Я же толком и не узнал, а все опять про себя… – тараторил Паня. Ему всегда после таких исповедей становилось стыдно за свое невнимание к собеседнику, потому что он на своем опыте знал, что в такие моменты чувствуешь себя тамбуром, куда выходят только покурить.
– Да так… – Ева тяжело выдохнула, словно тоже что-то долго держала в легких, и пар был таким густым, что Пане, увидевшему его краем глаза, показалось, что Ева закурила. – Нормально все. Из нового и все, и ничего… Как уже сказала, учусь, подрабатываю, маме помогаю… Как-то все своим чередом.
Паня было ехидно про себя улыбнулся тому, что Ева теряется, пытаясь вспомнить хоть что-то из своей однообразной, как расплющенные лягушки на пыльной проселочной дороге, жизни, но тут же почувствовал какое-то саднящее чувство в груди, какое испытывает ребенок, когда понимает, что ему поддаются, что его жалеют, как маленького. Ева просто пыталась увильнуть от того, что всегда было для нее самым важным, что было этим «всем и ничем» – точнее, кто. И эта чуткость к Паниным чувствам его только коробила, и в такие моменты ему доставляло особенное удовольствие нарушать сценарий.
– Знаешь, а меня сегодня уволили.
– Серьезно?.. – с какой-то застенчивой тревогой спросила Ева. Она даже не представляла, где мог работать Паня. – Но почему? За что?
– А, в глаза себе засмотрелся и опоздал, – с надрывным безразличием махнул Паня.
– В глаза? И что тебя в них так привлекло? Вернее, что ты в них такое увидел?
– Знаешь, я, честно говоря, сам до конца еще не понял. Забавно, я каждый день смотрюсь в зеркало, и это настолько привычное дело, что я даже никогда не спрашивал себя, а что, собственно, я вижу там.
– Как что? Себя ты там видишь, – усмехнулась Ева. Она, как и многие женщины, очень не любила, когда кто-то ставил под сомнение элементарные и всем уже по умолчанию понятые вещи, которые не стоили даже мысленного усилия.
– А себя – это кого?..
– Скажи, ты еще самому себе не надоел?
– Страшно надоел!.. – горько усмехнулся Паня. – Знаешь, иногда, проснувшись, я лежу на кровати и просто смотрю в потолок. Это только сегодня были гляделки с самим собой – а так обычно – потолок. Мне кажется, все в детстве мечтали, что однажды верх с дном поменяются местами и мы станем ходить по потолку. Но только недавно я понял, откуда растут ноги у этой мечты. На потолке нет никаких вещей, кроме люстры или лампы, которая при перевороте станет… не знаю… костром аборигенов из бетонных джунглей. Потолок – это чистота, которую охраняют законы физики, это чистота которую мы потеряли, придавленные к полу и покрытые пылью вещей. Идеи, концепты, замыслы ведь это – те же самые вещи.
– Интересно это ты расшифровал… Не пробовал приторговывать детством?
– Меня, увы, не печатают.
Оба посмеялись над старой шуткой – их шуткой, но как-то неохотно и устало, как пожилая пара, вышедшая на танцпол и делающая первые движения.
– Да к тому же о чем сейчас писать и снимать? О телефоноходящей пустоте, парализованной верчением ленты? Только вот за такую остросоциальщину статуэток и грантов не дают – по сценарию не положено.
– По какому сценарию?
– По тому, который на банкнотах еще написан.
Ева даже не стала ничего отвечать, но Паня почувствовал себя безнадежно скучным.
Они вошли в переход через Волоколамку, сотрясаемый воплями городского барда с алкогольной пощечиной на лице и табачной хрипотцой в голосе. Паня не без пятна на совести слегка пританцовывал на ходу, а перед беззубо лыбящимся оборванцем, протянувшим ему кепку со словами «Поддержки панков», демонстративно вывернул один карман (где не было кошелька) и ответил, что он один из них. Когда сцена осталась за поворотом, а Паня немного раскис, Ева заговорила:
– Я вот недавно в одной книге по психологии прочла, что балкон в наших квартирах – это зеркало души. И никакие не глаза. Это совершенно бестолковое помещение, не имеющее какой-то конкретной, «взрослой», – Ева согнула пальцы кавычками, – функции. И тем не менее лишь там мы можем из наших пыльных халуп наблюдать за окружающим миром.
Они вышли из перехода и пошли вглубь Балтийской улицы.
– Кто-то обустраивает там студию звукозаписи, мастерскую, разбивает маленький садик или медитирует – в общем, занимается душой. Но остальные забивают балкон ржавыми велосипедами, мутными банками с соленьями, коробками из-под обуви и прочим хламом. Иногда, конечно, они заходят помечтать о том, как разберут завал, повесят здесь турник и занесут гантели, но чаще всего эти мечты вымываются повседневщиной уже через несколько минут.
В те моменты далеких странствий по фотогалерее, когда Пане на глаза попадались записи из «запретного-прошлого», откуда доносился Евин звонкий смех и ее игривые подначивания, Паня, смущаясь то ли самого себя, то ли Евы, которая каким-то образом могла узнать о его постыдных делишках, пролистывал дальше. Но сейчас он бесстыдно упивался ее душистым, чуть надломленным, будто крыло раненного, но по-прежнему прекрасного лебедя, голосом.
– Люди наводят лоск в бытовых узлах, тогда как единственное, чем они могут чувствовать красоту, заляпано всяким…
Другие электронные книги автора Никита Королёв
Другие аудиокниги автора Никита Королёв
Друг




 0
0