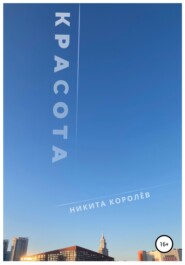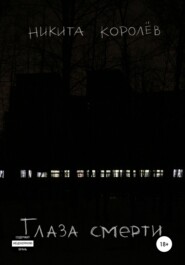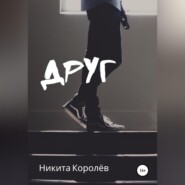По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
На кромке сна
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Пангея
Выйдя с работы раньше обычного, Паня спустился в метро. «Станция Люблино». Здесь были дачи, где Достоевский заканчивал «Преступление и наказание». Сейчас в этом районе при желании можно написать любое из его произведений, что называется, с натуры – на всех бедных, униженных и оскорбленных не хватит чернил.
С трансформаторной будки стерли ухмылку, детская площадка модно прорезинена, ее гладкая краска поблескивает глянцем. Дома, бледно-желтые низкие старички, прячутся за шершавыми спинами друг друга от реновации. Паня иногда бродил здесь, под окнами своего первого дома, приезжая навестить свое детство. Но в самой квартире он не был с самой папиной смерти. Прошло уже десять лет.
Звонок бабушке. Нет, она не может сейчас принять Паню, она только приехала домой и очень устала. Время – час дня.
Паня изначально знал, что бабушка его не впустит – за все это время она ни разу не пригласила его в гости, обходясь приглашениями на концерты, телефонными звонками и какими-то беглыми, полузапретными свиданиями у школы. А получить такое от бабушки означает только то, что квартиру или ее новых обитателей ему лучше не видеть.
Паня также знал и то, что своими «Я тут оказался в твоем районе, могу ли я зайти?» он заставит бабушку еще лишний разок лениво колыхнуться в ее многолетней лжи. Но какая-то его часть, маленькая прореха в броне цинизма, все же сомневалась. Туда и прилетел удар. «Нет-нет, у меня все есть… Пань, ну спасибо тебе большое, что позвонил (надломленный чувством голос)… ты же знаешь, я всегда рада… тебя слышать». Кастрированная забота, которая не скрывает своих швов, но Паня подыгрывает, притворяясь, что ничего не увидел. Соучастник по своей деликатности. Паня уже хотел повесить трубку, но не смог – ему еще нужно было тащить на гору тележку со враньем бедной старушки. Так что он продолжал лепетать что-то в ответ, но отнес трубку подальше от уха и уже не вслушивался в бабушкин треп. Все это было уже не важно. Причем, неважно это было уже очень и очень давно. От этого Пане стало холодно, хотя его куртка отлично сохраняла тепло. Они стали прощаться, и только тут Паня проявил себя, повесив трубу после первого же «пока». Желание нежиться в ностальгии, бродя по знакомым улицам и дворам, куда-то пропало. Но признался Паня себе в этом не сразу.
Он еще прошел переулком на Совхозную улицу и, войдя во двор, оказался там, где были те самые гаражи. Лунный грунт, коридор из серебристых блесток. Но это было раньше, а сейчас здесь был асфальтовый загон для машин, исполосованный краской и загнанный в бордюры. Паня узнал это место только по подъезду дома напротив. Он усилием пытался что-то всколыхнуть в себе, глядя на асфальт, где раньше были гофрированные листы стали и щебень. Но получался только надрыв и игра, уже порядком поднадоевшая Пане за годы, проведенные в попытках испытать что-то детское, хрупкое, давно растоптанное черным юмором и затертое меж платежных квитанций. Но вдруг что-то все же колыхнулось в Пане. Ему захотелось пойти в старую дремучую часть Кузьминок, которую обошел стороной этот собяниновский садовник, закатавший под плитку парковые дорожки, понавтыкавший всюду угловатые матовые фонари, призванные, кажется, освещать не лесной бархатистый полумрак, а вязкую черноту космоса, и всякую пестро-минималистичную фанерную дребедень типа надгробий «I love Moscow» и сцен, на которых под эту же самую фанеру и поют.
Там, по скрытым в чаще и виляющим меж оврагов тропам они с папой когда-то ходили на горку – кататься на снегокате. Папа шел впереди и вез за собой разрумяненного Паню. В ветках, приветливо подмигивая, мелькало утреннее солнце, а за деревьями, параллельно тропинке, тянулся замерзший ручей, изредка выныривающий из-под снега черной змейкой. Воздух пах хвоей, талой водой и шерстяным шарфом, туго обвязанным вокруг шеи, так что из-под него выглядывали только Панины глаза.
Еще неподалеку, за оврагом, оставшимся позади, ржавела какая-то древняя коллекторная система с мостиками над мутной, стоялой водой. Поручни из арматуры или вовсе отсутствовали, или болтались, закрепленные лишь одним концом. Паня обнаружил эти коллекторы уже многим после, во время своих одиночных прогулок по местам детства. Все там было ломкое и заросшее, и потому, наверное, они обходили это место стороной. Папины шаги, самые большие на свете, оглашались скрипом еще не утоптанного за утро снегом. Люди ходили здесь очень редко, и Паня даже какое-то время томился вопросом, кто же все-таки проложил здесь эти дорожки и кто каждый день не дает им стереться…
Пане вновь захотелось пойти туда – разгадывать часами, а то и днями эту и множество других загадок, которые скрывает молчаливая старина глухой окраины.
Окрыленный этим всепобеждающим чувством он полетел по Совхозной, туда, где она упирается в автобусный парк, и дальше, меж двух больниц – для души и тела, – тянутся аккуратные ленты прогулочных дорожек, а вдали виднеется купол маленькой церквушки – первой, которую маленький Паня посетил в своей жизни.
Он вышел со двора и на радостях рванул чуть не бегом, раззадоренный предвкушением, – но с ним он не дошел и до конца дома. Надорванная спина дала о себе знать. С каждым шагом на правую ногу, отзывавшимся мерзостной скрипящей болью где-то в тазу, Панино ликование словно бы расплескивалось, становясь частью бурой массы под ногами, и удержать эту внутреннюю позу становилось все сложнее, пока Паня не понял, что это и ни к чему. Сейчас все эти детские зарисовки, эпитеты, образы были просто фантиками, в которые копирайтер-пейзажист неумело завернул свой квартирный оффер. А на самом деле Паня просто хватался за переспелое чувство, как ребенок, который хочет задержать воду отступившей волны в песочной ямке.
На самом деле ему просто хотелось уехать отсюда.
Но точно не тем же путем. Паня шел теперь, выставляя правую ногу совсем рядом, шагая по большей части левой. Дошел до конца Совхозной, свернул налево, на Ставропольскую; пройдя мимо автосервиса, парковки и сквера, где все деревья почему-то беспрекословно двоились, оказался на Люблинской и пошел вдоль кадящей бензином дороги, по обрызганным слякотью тротуарам, под сенью экзгумированных деревьев, мимо полузамерзжих прудов и последних пристанищ надежды, предлагающих пиво или два к одному, если «Зенит» забьет в первом тайме; сквозь ущербную торговлю у Текстилей к станции МЦК «Угрежская», туго обвязанной гремящими эстакадами.
Перед глазами бархатистая темнота занавеса, которая уже через секунду сменится ослепительным светом софитов. Статист с гарнитурой весь превратился в слух. Под последние вялые хлопки, в быстро леденеющей тишине раздается голос ведущего, приглушенный из-за тканевой толщи.
– А сейчас я попрошу всех атеистов отвернуться от экранов.
Молчание. Из зала доносятся отдельные смешки.
– Хотя нет, лучше повернитесь.
Уверенный плотный смех.
– Сегодня у нас в гостях человек, который… В общем, легче будет перечислить, что он не «который». Друзья, впервые в нашей студии: музыкант, поэт, писатель, философ, встречайте – Пантелеймон Вымпелов!
Свет, рев зала, овации. Собственная музыка. Выхолощенная, переиначенная на эстрадный лад. Портьеры за спиной задвинулись, и тут же протянулась рука. Смуглая, волосатая, безукоризненная. Искры часов, блеск запонок. Рукопожатие. Она же, взяв под плечо, повела к креслу. К звездному креслу, принимавшему в свои объятия ткани самых изысканных задов. Хлопок по плечу. Забыл пожать еще одну руку. Она поменьше, но по-обезьяньи цепкая и розоватая, будто распаренная горячей водой. Наконец расселись по местам. Отзвенели высокие ноты, отгремела барабанная дробь, и шумная кода, со всего размаху ударив в последнюю, растянутую долю, рассыпалась и смолкла.
Снова тишина и этот игриво-суровый взгляд, который дает пару лишних секунд на то, чтобы вспомнить какие-нибудь ужасные и не очень цензурные ситуации, из которых состоит по большей части жизнь, и понять, как же эти взгляды сейчас фальшивы и ничтожны. Скулы потяжелели. В зале потихоньку начинают гоготать. Цель достигнута.
– Для начала давайте выясним, – пауза и взгляд, чем-то наливающийся. Возможно, очередной фикцией. – Как я могу к вам обращаться?
– Паня.
– Паня – Ваня, Ваня – Паня, будем друзьями.
– Знаю, я должен сейчас со степенным видом, как бы невзначай, рекламировать свою новоиспеченную книжонку…
Под потолком загорелась лампочка, и слова утонули в смехе.
– Нет, это… это… – приходится надрывать голос, хотя выглядит это эффектно – будто есть какая-то важная тема, а все здесь собрались отнюдь не только ради денег, пиара и хохотушек, – это так странно…
Наконец тишина.
– Я, наверно, отношусь уже к тому поколению торговцев лицом, которые, придя на ваше шоу, имеют больше вопросов к вам, нежели вы к ним.
Хлопки и возгласы одобрения.
– Вот чашка. Та самая. Осталась ли на ней звездная ДНК? Микробы на миллион… Или вы их потом тщательно моете?
Глумливые смешки.
– Во-первых, это кружка. А во-вторых, после вас – будьте уверены.
Один-один.
– И это все вокруг…
– Да… – удивленный взгляд по сторонам и ироничный – в камеру, – дизайнеры постарались.
– Помню момент. Вечер. На улице дотлевает какой-то очередной никчемный день. Я сижу в своей комнате, в соседней мама храпит. Зябко, во рту привкус черте чего, каких-то ништяков. Леденцы, сушки, сухие макароны – я их потягивал по три штучки из углового шкафа над столешницей. В животе тяжесть, а есть все равно хочется. От духоты иногда лицо будто опаляет, а улица только через форточку дышит. И все такой склизкой тенью покрывается, которая как бы в самое нутро заползает. Какое-то выдохшееся отчаяние. Словно что-то вместе с закатным светом навсегда уходит, умирает, а ты сидишь, притихнув, и смотришь. И только свет экрана. Ненастоящий, холодный. Но так легко собрать эту горстку пикселей в живую абстракцию. Я вас тогда смотрел, выпуски с любимыми артистами. И когда картинка подвисала и посередине возникал кружочек загрузки, я неволей вглядывался в то, из чего сделан этот мир, и внутри каждый раз будто что-то разбивалось об его плоскость…
– Д-друзья, ну вот, собственно, то, о чем я говорил, когда предупреждал всех атеистов.
Сдержанные смешки.
– Столько ситуаций абсурдных или смешных фантазировал: как буду рассказывать вам историю своего успеха, о сложностях на пути, как лишь вскользь упомяну то, что казалось мне концом или было для меня всей жизнью… И все это так облегчится в непринужденной беседе, оторвется от чувств, что будто и вовсе не со мной было. Как штормящее море, заточенное в бутылку слов. Понимаете? Я слушал истории звезд и завидовал той непринужденной деловитости, с которой они говорят о проделанной работе, о подходе к ней и методах, потому что для меня это было делом настоящего, тревожным и мучительным в своей неопределенности. Я дивился их собранности и целеустремленности, потому что сам я был расхристанным и ленивым. Я трепетал перед строгостью их дневного распорядка, потому что болтался, как выбитый зуб, на нервах, да и то последних, нигде не прикрепленный, не обозначенный, и только сам мог быть себе режиссером. Наконец, я боялся их плодовитости, объема трудов и налепившихся на него заслуг, потому что сомневался, смогу ли я выложиться так же, смогу ли быть так же хорош. Ведь меня никто не знал. И вот я сижу здесь сейчас, картинка на чьем-то экране, и все эти вопросы и фантазии куда-то подевались. Я вижу кирпичные стены, рельсы камеры, выходы из студии там, вверх по лестнице, технические конструкции. Я знаю, вы это все и так телезрителю иногда показываете, но это ведь нарочно, – чтобы границы мира кадра сделать его частью.
Мгновенная, но весьма заметная оторопь во взгляде, которой явно не было в сценарии.
– Но отсюда же все равно видно еще больше. А как только видишь рамку, целый мир оборачивается тем, чем и был с самого сначала – картинкой. И я думаю, магия жизни в том, что на время мы об этом забываем. И, наверно, думать о таких вещах и сидеть здесь, в этом кресле – действия взаимоисключающие.
– Ну почему же, Пань? Ну погоди… – плаксивый тон. – Ну ты же сидишь сейчас здесь, и я рядом… – придвинулся поближе со смачной лыбой. – Или это все сон? – плавно развел руки в стороны и чуть повернул голову с каким-то рыбьим выражением.
В паркете, между половицами, есть щель, видимо, от влажности. На левом кеде, где большой палец, намечается дырка, а на руке опять расковырял мозоль.
Стало слышно легкое жужжание осветительных приборов.
– Иногда… – собственный голос порезал слух, – иногда мне кажется…
Крупный план на лицо, медленное приближение.
– Будто я так и не вышел тогда из ком…
Громыхнула музыка. Виляющие саксофоны, прыгающий синтезатор, женские напевы.
Другие электронные книги автора Никита Королёв
Другие аудиокниги автора Никита Королёв
Друг




 0
0