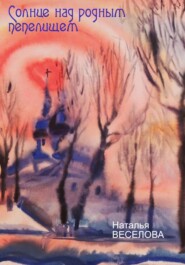По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Олений колодец
Год написания книги
2024
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Олений колодец
Наталья Александровна Веселова
Имена. Российская проза
Верите ли вы, что судьбы людей, не просто незнакомых – разделенных целым веком, могут переплестись? И не только переплестись – отразиться друг в друге, словно в зеркале?
1918-й. Голодный, разоренный Петроград. Ольга и Савва – молодая пара, они видели смерть, знают цену жизни. Савва серьезен не по годам, без памяти влюблен в свою Оленьку, трогательную и нежную, и уверен, что впереди долгая, счастливая жизнь. Надо лишь пережить трудные времена.
Наши дни, Санкт-Петербург. Савва – коренной петербуржец, страстный коллекционер. Карьера, интересные знакомства, колоритные женщины – все это в прошлом. Сегодня остались только любимое дело и воспоминания.
Оля, по прозвищу Олененок, уже не юна, но жить, по сути, еще не начинала: тотальный контроль со стороны мамы, отсутствие личной жизни, тайная страсть к мужчине, который об этом и не подозревает.
Они встретятся, когда одним жарким летним днем Олененок окажется запертой в глухом питерском доме-колодце, застряв между жизнью и смертью. И вот тогда-то Савва наконец узнает мрачную тайну своего прадедушки, поймет, почему ему дали такое редкое имя, и еще поймет, что судьба иногда подкидывает сюжеты, которых не найдешь в самых интересных книгах и фильмах.
Наталья Веселова
Олений колодец
© Веселова Н., 2024
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2024
Издательство АЗБУКА®
* * *
Я от жизни смертельно устал,
Ничего от нее не приемлю,
Но люблю мою бедную землю,
Оттого, что иной не видал.
О. Мандельштам
Пролог
Сегодня она ела только вечером, остатки крупы – замечательной желтой крупы, состоявшей из крошечных блестящих шариков. Маленькой женщине, которой удивительно шли остриженные темно-рыжие волнистые волосы, делавшие ее умненькую головку на длинной трогательной шейке с голубыми жилками похожей на растрепанный осенний цветок, – этой вчерашней девочке утром не удалось не только сварить постылую кашу, но даже довести воду с крупой и солью до кипения. Последние два полена (как быстро растаяла нарядная горка березовых дровишек у низкой кухонной плиты!) превратились в золу совершенно напрасно, не дав ни настоящего жара железному листу, на котором стояла небольшая кастрюлька, ни даже сколько-нибудь значимого тепла убогому чужому жилищу, – только слегка нагрелась вода, в которой до заката осталась набухать яркая горстка пшена.
Чего только не ела за последний невероятный год эта женщина! Она и печенье пекла из картофельной шелухи и кофейной гущи, и брюнетное мясо научилась сдабривать перекисшей квашеной капустой, чтобы ослабить неперебиваемый вороний дух, и даже жесткую маханину[1 - Конина (простореч.). (Здесь и далее, за исключением специально оговоренных случаев, примечания автора.)] привыкла считать деликатесом… А вот сырой крупы еще не пробовала – как-то всегда удавалось достать либо дров, либо керосину. Ничего, когда та размокла и увеличилась в объеме раза в три, оказалось, что есть вполне можно, если очень голодно, и даже сытость какая-то пришла – влажная тяжесть, если точнее.
Зато теперь еды не осталось вообще – ни крошки съестного во всей квартирке. И если она, уже сейчас отчаянно слабая от давнего и постоянного голода, в ближайшее время отсюда каким-либо способом не выберется, то к вечеру следующего дня и подавно не сможет предпринять никакой попытки. Просто останется, обессиленная, лежать на этой коварно мягкой кровати, медленно окутываемая сладкой роковой дремотой, и постепенно заснет навсегда… Ой ли? Так, говорят, замерзают насмерть, но такова ли смерть от голода? Не разбудит ли он свою жертву нестерпимыми спазмами и раздирающей болью, не заставит ли срывать обои и слизывать изнутри сухой крахмалистый клейстер (раз такая мысль уже приходила, то придет и еще!), грызть в помрачении ума деревянную мебель?! А потом не лишит ли остатков разума, не заставит ли броситься в бездну с высоты двадцати с лишним аршин[2 - В одном аршине 71 см.]?!
Женщина в тысячный раз метнулась к узкому кухонному окошку, стыдливо прилепившемуся к боковой стене, рванула на себя раму, и в лицо ей ударил странно морозный воздух ясного майского вечера. «Май – коню сена дай, а сам на печку полезай», – так, кажется, любила приговаривать ее старенькая няня, юной девушкой привезенная в Петербург откуда-то с северных морей. «Сиверко…»[3 - Холодная, ветреная погода (архангельский диал.).] – задумчиво тянула она, бывало, кутаясь на их лужской даче в самом конце весны в выцветшую шерстяную шаль и глядя с веранды, как насильник-ветер жестоко срывает бело-розовый девичий наряд с хрупких юных яблонь… Ее маленькой воспитаннице всегда казалось, что Сиверкой должны звать седого в яблоках коня, – и даже сейчас, взрослой и уже неделю как замужней («Вдове», – глухо отдалось в сердце), ей при быстром ветреном ожоге почему-то привиделся добрый конь сероватой масти…
Широко расставленные, чуть удлиненные темно-карие глаза девочки-женщины отчаянно глянули вниз. Все то же: захватывающая дух безнадежностью бурая кирпичная шахта двора без единого стеклянного ока-окна. Двор-циклоп, чей единственный глаз под крышей – именно то окошко, из которого она сейчас с тоской смотрит то вниз, на покрытый слоем накиданного непогодой мусора пятачок земли, то вверх, на неровный ломоть льдисто-перламутрового неба над ржавыми крышами и трубами этой жуткой весны. Весны, подобной которой еще от века не было и в которую ее угораздило жить, любить, стать женой – и вдовой. Она уже не могла сомневаться в этом последнем: бесполезно громоздить в пылающей фантазии Анды и Кордильеры причин, помешавших ее мужу вернуться с подмогой. Будь он жив – примчался бы в то же утро. Будь ранен – прислал бы друзей не позже следующего дня, а прошла уже целая неделя!
Его нет. Она вдова.
Перед ней – только немые, уходящие в пропасть стены, на одной из которых – тонкая железная лестница, куда ее молодой муж по-обезьяньи ловко перекинул свое стройное длинноногое юношеское тело и, на прощанье крикнув: «Я скоро-а!» – откуда-то совсем из-под крыши, уже невидимый, исчез из ее жизни навсегда.
Прикрыв окно, женщина прикоснулась к голове кончиками пальцев, тотчас ощутив бешеную пульсацию в висках. «Я должна решиться сейчас… Именно сейчас. Побороть страх! Дышать глубоко и размеренно. Вот так… Потом будет поздно. Если не ради себя самой, то ради…» – узенькая ладошка с тонким обручальным колечком опустилась к животу, где если бы вдруг оказалась вторая, родная жизнь, то очень нескоро бы стала явной. Она стремительно прошла к убогой вешалке у входной двери, сняла куцое темное пальтишко, торопливо напялила его, привычно музыкально пробежавшись пальцами по мелким пуговичкам, схватила черную девичью шляпку и, не глядя на себя в зеркало в смутном страхе встретиться с зеркальной обитательницей взглядом и передумать, наугад нахлобучила себе на голову. Прочную кухонную обшарпанно-голубую табуретку она подтащила к окну, легко взошла на нее, как на сцену, потянула раму за ручку, решительно переступила на подоконник.
«Только не смотреть вниз! Там все равно нет ничего, кроме веток и тополиного пуха за… Сколько лет стоит этот дом? Лет двадцать?.. Ветки и пух за двадцать лет – и ничего больше. Ну, может, парочка дохлых кошек или ворон… Нет, не смотри! Только на лестницу! Сначала нужно дотянуться до нее и крепко ухватиться за край левой рукой, потом перенести тяжесть тела влево, а правой держаться за раму… Одновременно занести на лестницу левую ногу, найти перекладину и встать на нее… И тогда уже оторваться от рамы и… Ну, сколько тут? Полтора аршина? Меньше, меньше! Конечно, меньше! Не страшно, не страшно… Вот сейчас… Зато как хорошо будет, когда я окажусь на ступеньках, – только лезть вверх!»
Но ее тонкие изящные ножки, обутые в высоко зашнурованные остроносые мамины ботики, не были так длинны и ловки, как у мужа, довольно легко, с прибаутками, перемахнувшего на лестницу неделю назад. И худенькие пальчики не привыкли долго и цепко держаться за мерзлый металл. Кончик левого ботинка царапнул чугун и, не нащупав спасительной перекладины, скользнул раз, другой – все тело уже доверилось левой тянущейся ноге! – но та никак не находила опоры… Настал миг острой, насквозь пронзившей мысли: «Все! Назад уже не вернуться! Либо – туда, либо…» И в эту секунду, распятая на углу из двух стен, как святой апостол Андрей на косом кресте, она вспомнила, что не взяла со стола рамку с их свадебной – и единственной! – фотографией, та осталась на столе у изголовья кровати, и ее никогда, никогда теперь не вернуть! Быстрая страшная мысль мгновенно лишила женщину сил и воли к борьбе – она словно осталась без магического талисмана, священного тотема, утратила путеводную звезду… Правая одеревеневшая рука оторвалась от рамы, взметнулась… Хрупкое тело рывком дернуло влево, на волю бесчувственных от железного холода слабых пальцев – и они беспомощно разжались; стало стремительно удаляться запрокинутое небо.
Наконец оно резко остановилось, зависло высоко над беззвучно упавшей на спину маленькой женщиной, приняло свою единственно возможную здесь форму – квадратную – и жемчужная голубизна померкла. Сотрясение медленно проходило. Боли не было вовсе, словно тонкое тело приняла в себя какая-то давняя детская перинка… Точно, перинка, и мама – или не мама, вернее, не совсем мама, но это неважно теперь – неспешно качает теплую колыбель.
– Видишь, я попыталась, но у меня не получилось… – виновато пожаловалась кому-то юная женщина, не размыкая губ. – У меня же крыльев-то нету…
– Скоро будут, – ответили ей. – Ну вот, уже есть… Что ты лежишь? Полетели.
Часть 1
Глава 1. Пустая шоколадина
О, слава, слава русскому народу!
Свершилось ныне чудо из чудес:
Народ себе завоевал свободу,
Народ воскрес – воистину воскрес!
Т. Щепкина-Куперник
Февральский, без пяти минут весенний Петроград выглядел в том году как большая черно-белая фотокарточка, попавшая в руки беспечному художнику: взял он беличью кисть, щедро обмакнул ее в неразбавленную алую краску – да и стряхнул над унылой картонкой. И вспыхнул невзрачный мир красными гвоздиками, розами и маками, и сами собой расцветали вокруг искренние улыбки… Городовые с их грозными бляхами враз исчезли с праздничных улиц, сметены были возбужденной толпой с яркими отметинами на одежде: выйти в те дни на улицу без пышно пламенеющего банта значило не больше не меньше предать саму гордую деву Революцию.
Чуть посинел в сумерках воздух – и тотчас загорелись повсюду высокие костры, озарявшие тысячи вдохновенных лиц, и был братом человек человеку: застегнутый на все пуговицы учитель в котелке и пенсне ломал пополам свою зачерствевшую осьмушку ржаного хлеба, от души угощая усатого солдата в перечеркнутой багряной полосой лихо сидевшей шапке, утонченная барышня в вуалетке, как с подругой, щебетала с чужой волоокой горничной…
В ночь на последний зимний день 1917 года из Таврического дворца весело летел небольшой «бьюик» с откинутым верхом – и в нем тоже горели словно четыре маленьких костерка – трепетали на ветру яркие ленты бантов на двух студенческих шинелях, одном тощеньком девичьем и одном солидном мужском пальто. Трое из бантоносцев знакомы были уже достаточно давно, оттого и зачислились в одну революционную санитарную бригаду, и дежурство в Таврическом дворце всегда несли одновременно. Два студента выпускного курса физмата – Володя Хлебцевич и Савва Муромской – трогательно дружили со студенткой Женского медицинского института Леной Шупп, третьим важным участником их бригады (причем Савва небезосновательно подозревал, что просто и честно дружит с «Лелей» только он сам, а товарищ его Володя испытывает чувства куда более романтические). Молодой жизнерадостный доктор, недавно выпустившийся из академии, был сегодня принудительно добавлен к ним в нагрузку, потому что, не имея лекарского диплома, Лена пока могла только исполнять обязанности сестры милосердия, и к ее распахнутым льдистым глазам очень шел скромный белый повойничек с красным крестом, ниспадавший на суконное с седой полоской каракуля пальтишко.
По ночному революционному городу к местам перестрелок ездили они втроем уже не первый раз, бесстрашно неся человеколюбивую службу: оказывали первую помощь раненым, при необходимости подбирали их и доставляли в ближайшие госпитали. Когда втроем дежурили, двоих недужных вполне можно было втиснуть на заднее сиденье, а сейчас, с доктором, сзади помещался только один раненый, второго же пришлось бы класть поперек, на колени сидящим, что вызывало у всех легкое недоумение. Шоффэром в бригаде бессменно трудился Савва – высокий худой молодой человек, в котором тем не менее чувствовалась немалая физическая сила: ловкий, поджарый, быстрый и точный в движениях, он, при всей чисто русской неброскости внешнего вида, невольно заставлял любоваться собой. Выучиться управлять автомобилем ему посчастливилось двумя годами раньше, летом на даче, когда богатый владелец соседнего имения приобрел себе техническую новинку и нанял к ней шоффэра-профессионала – добродушного основательного дядьку, который охотно подружился с пытливым студентом, желавшим во всем добраться до сути, и, убедившись в неподдельном интересе юного друга и отсутствии от него какой-нибудь угрозы для своего подопечного новенького «доджа», вскоре допустил его до сверкающего авто, тайком разрешая садиться за руль на полевой дороге и разгоняться даже до тридцати верст. Теперь в революционном Петрограде, где извозчики попрятались, а трамваи встали, Савва быстро наловчился лихо рулить в потемках в свете солдатских костров, пронзительно гудя в клаксон и безмолвно гордясь изяществом своей шоффэрской повадки.
Володя Хлебцевич, приятель его по университету, казался увальнем – крупный, русоволосый, с типичным мягким хорошим лицом и большим благородным сердцем. Он писал и с удовольствием декламировал стихи, увлекался экономикой и даже недавно разразился каким-то трактатом в подражание Марксу – Савва хорошо помнил его название: «Золото как посредник обмена» – в прошлом году на еще не революционном студенческом собрании Володя делал доклад и краснел, как институтка, от дружеской похвалы. И новаторству был совсем не чужд милый Володя: про его проект летательного велосипеда слышал на физмате, наверное, даже швейцар. А что? Это при косном царском режиме, душившем все живое в науке, таким романтикам ходу не было, а теперь, когда свободная мысль вот-вот восторжествует навсегда, – возьмут да и полетят Володины велосипеды в синем небе! В патруле Володя участвовал, конечно же, ради Лены, к которой относился очень трепетно, – ну, и медвежья мощь его, когда несчастных надо было практически нести в авто, не раз за последние тревожные дни пригождалась.
Пригодиться могла и сегодня, когда мчались они из Таврического на Васильевский остров, где, как телефонировали, все не мог угомониться лейб-гвардейский Финляндский полк, затеявший уже бессмысленную перестрелку с восставшими солдатами и рабочими. Доктор, отпускавший вполне приличные в присутствии барышни шутки, и взволнованный Володя сидели позади, Лена – рядом с Саввой, и все смеялись даже глупым анекдотам: радостное возбуждение в ожидании чего-то невыразимо прекрасного, готового вот-вот наступить, охватило в те дни буквально всех, общая приподнятость над землей ощущалась любым восприимчивым сердцем. Даже вошедший последнее время в привычку легкий голод не становился поводом для особого огорчения – потому что Революция же! – значит, скоро будет много всего и для всех.
– Все-таки жаль, что так сразу выехали, даже супу тепленького не успели поесть… – с беззаботной грустью произнесла вдруг Лена.
– Лелечка, мы сейчас только посмотрим, что там, и сразу обратно, – немедленно ласково наклонился к ней Володя. – Слышишь, там, кажется, стихает уже. Наши порции нас дождутся, можешь быть уверена…
– Да, а сейчас поешь вот, – неосознанно и без всякого желания соперничая с Володей, Савва залез на ходу в свой карман, доставая аккуратный сверток, полученный утром от мамы. – Из дома.
Лена неуверенно взяла угощение и, взглянув на тонкий кусок мяса между двух лепесточков хлеба, обрадовалась:
– Сэндвич! Ой, Савка, у тебя был, можно сказать, целый обед в кармане, а ты молчал, жадина-говядина, пустая шоколадина… – и она принялась энергично жевать.
Наталья Александровна Веселова
Имена. Российская проза
Верите ли вы, что судьбы людей, не просто незнакомых – разделенных целым веком, могут переплестись? И не только переплестись – отразиться друг в друге, словно в зеркале?
1918-й. Голодный, разоренный Петроград. Ольга и Савва – молодая пара, они видели смерть, знают цену жизни. Савва серьезен не по годам, без памяти влюблен в свою Оленьку, трогательную и нежную, и уверен, что впереди долгая, счастливая жизнь. Надо лишь пережить трудные времена.
Наши дни, Санкт-Петербург. Савва – коренной петербуржец, страстный коллекционер. Карьера, интересные знакомства, колоритные женщины – все это в прошлом. Сегодня остались только любимое дело и воспоминания.
Оля, по прозвищу Олененок, уже не юна, но жить, по сути, еще не начинала: тотальный контроль со стороны мамы, отсутствие личной жизни, тайная страсть к мужчине, который об этом и не подозревает.
Они встретятся, когда одним жарким летним днем Олененок окажется запертой в глухом питерском доме-колодце, застряв между жизнью и смертью. И вот тогда-то Савва наконец узнает мрачную тайну своего прадедушки, поймет, почему ему дали такое редкое имя, и еще поймет, что судьба иногда подкидывает сюжеты, которых не найдешь в самых интересных книгах и фильмах.
Наталья Веселова
Олений колодец
© Веселова Н., 2024
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2024
Издательство АЗБУКА®
* * *
Я от жизни смертельно устал,
Ничего от нее не приемлю,
Но люблю мою бедную землю,
Оттого, что иной не видал.
О. Мандельштам
Пролог
Сегодня она ела только вечером, остатки крупы – замечательной желтой крупы, состоявшей из крошечных блестящих шариков. Маленькой женщине, которой удивительно шли остриженные темно-рыжие волнистые волосы, делавшие ее умненькую головку на длинной трогательной шейке с голубыми жилками похожей на растрепанный осенний цветок, – этой вчерашней девочке утром не удалось не только сварить постылую кашу, но даже довести воду с крупой и солью до кипения. Последние два полена (как быстро растаяла нарядная горка березовых дровишек у низкой кухонной плиты!) превратились в золу совершенно напрасно, не дав ни настоящего жара железному листу, на котором стояла небольшая кастрюлька, ни даже сколько-нибудь значимого тепла убогому чужому жилищу, – только слегка нагрелась вода, в которой до заката осталась набухать яркая горстка пшена.
Чего только не ела за последний невероятный год эта женщина! Она и печенье пекла из картофельной шелухи и кофейной гущи, и брюнетное мясо научилась сдабривать перекисшей квашеной капустой, чтобы ослабить неперебиваемый вороний дух, и даже жесткую маханину[1 - Конина (простореч.). (Здесь и далее, за исключением специально оговоренных случаев, примечания автора.)] привыкла считать деликатесом… А вот сырой крупы еще не пробовала – как-то всегда удавалось достать либо дров, либо керосину. Ничего, когда та размокла и увеличилась в объеме раза в три, оказалось, что есть вполне можно, если очень голодно, и даже сытость какая-то пришла – влажная тяжесть, если точнее.
Зато теперь еды не осталось вообще – ни крошки съестного во всей квартирке. И если она, уже сейчас отчаянно слабая от давнего и постоянного голода, в ближайшее время отсюда каким-либо способом не выберется, то к вечеру следующего дня и подавно не сможет предпринять никакой попытки. Просто останется, обессиленная, лежать на этой коварно мягкой кровати, медленно окутываемая сладкой роковой дремотой, и постепенно заснет навсегда… Ой ли? Так, говорят, замерзают насмерть, но такова ли смерть от голода? Не разбудит ли он свою жертву нестерпимыми спазмами и раздирающей болью, не заставит ли срывать обои и слизывать изнутри сухой крахмалистый клейстер (раз такая мысль уже приходила, то придет и еще!), грызть в помрачении ума деревянную мебель?! А потом не лишит ли остатков разума, не заставит ли броситься в бездну с высоты двадцати с лишним аршин[2 - В одном аршине 71 см.]?!
Женщина в тысячный раз метнулась к узкому кухонному окошку, стыдливо прилепившемуся к боковой стене, рванула на себя раму, и в лицо ей ударил странно морозный воздух ясного майского вечера. «Май – коню сена дай, а сам на печку полезай», – так, кажется, любила приговаривать ее старенькая няня, юной девушкой привезенная в Петербург откуда-то с северных морей. «Сиверко…»[3 - Холодная, ветреная погода (архангельский диал.).] – задумчиво тянула она, бывало, кутаясь на их лужской даче в самом конце весны в выцветшую шерстяную шаль и глядя с веранды, как насильник-ветер жестоко срывает бело-розовый девичий наряд с хрупких юных яблонь… Ее маленькой воспитаннице всегда казалось, что Сиверкой должны звать седого в яблоках коня, – и даже сейчас, взрослой и уже неделю как замужней («Вдове», – глухо отдалось в сердце), ей при быстром ветреном ожоге почему-то привиделся добрый конь сероватой масти…
Широко расставленные, чуть удлиненные темно-карие глаза девочки-женщины отчаянно глянули вниз. Все то же: захватывающая дух безнадежностью бурая кирпичная шахта двора без единого стеклянного ока-окна. Двор-циклоп, чей единственный глаз под крышей – именно то окошко, из которого она сейчас с тоской смотрит то вниз, на покрытый слоем накиданного непогодой мусора пятачок земли, то вверх, на неровный ломоть льдисто-перламутрового неба над ржавыми крышами и трубами этой жуткой весны. Весны, подобной которой еще от века не было и в которую ее угораздило жить, любить, стать женой – и вдовой. Она уже не могла сомневаться в этом последнем: бесполезно громоздить в пылающей фантазии Анды и Кордильеры причин, помешавших ее мужу вернуться с подмогой. Будь он жив – примчался бы в то же утро. Будь ранен – прислал бы друзей не позже следующего дня, а прошла уже целая неделя!
Его нет. Она вдова.
Перед ней – только немые, уходящие в пропасть стены, на одной из которых – тонкая железная лестница, куда ее молодой муж по-обезьяньи ловко перекинул свое стройное длинноногое юношеское тело и, на прощанье крикнув: «Я скоро-а!» – откуда-то совсем из-под крыши, уже невидимый, исчез из ее жизни навсегда.
Прикрыв окно, женщина прикоснулась к голове кончиками пальцев, тотчас ощутив бешеную пульсацию в висках. «Я должна решиться сейчас… Именно сейчас. Побороть страх! Дышать глубоко и размеренно. Вот так… Потом будет поздно. Если не ради себя самой, то ради…» – узенькая ладошка с тонким обручальным колечком опустилась к животу, где если бы вдруг оказалась вторая, родная жизнь, то очень нескоро бы стала явной. Она стремительно прошла к убогой вешалке у входной двери, сняла куцое темное пальтишко, торопливо напялила его, привычно музыкально пробежавшись пальцами по мелким пуговичкам, схватила черную девичью шляпку и, не глядя на себя в зеркало в смутном страхе встретиться с зеркальной обитательницей взглядом и передумать, наугад нахлобучила себе на голову. Прочную кухонную обшарпанно-голубую табуретку она подтащила к окну, легко взошла на нее, как на сцену, потянула раму за ручку, решительно переступила на подоконник.
«Только не смотреть вниз! Там все равно нет ничего, кроме веток и тополиного пуха за… Сколько лет стоит этот дом? Лет двадцать?.. Ветки и пух за двадцать лет – и ничего больше. Ну, может, парочка дохлых кошек или ворон… Нет, не смотри! Только на лестницу! Сначала нужно дотянуться до нее и крепко ухватиться за край левой рукой, потом перенести тяжесть тела влево, а правой держаться за раму… Одновременно занести на лестницу левую ногу, найти перекладину и встать на нее… И тогда уже оторваться от рамы и… Ну, сколько тут? Полтора аршина? Меньше, меньше! Конечно, меньше! Не страшно, не страшно… Вот сейчас… Зато как хорошо будет, когда я окажусь на ступеньках, – только лезть вверх!»
Но ее тонкие изящные ножки, обутые в высоко зашнурованные остроносые мамины ботики, не были так длинны и ловки, как у мужа, довольно легко, с прибаутками, перемахнувшего на лестницу неделю назад. И худенькие пальчики не привыкли долго и цепко держаться за мерзлый металл. Кончик левого ботинка царапнул чугун и, не нащупав спасительной перекладины, скользнул раз, другой – все тело уже доверилось левой тянущейся ноге! – но та никак не находила опоры… Настал миг острой, насквозь пронзившей мысли: «Все! Назад уже не вернуться! Либо – туда, либо…» И в эту секунду, распятая на углу из двух стен, как святой апостол Андрей на косом кресте, она вспомнила, что не взяла со стола рамку с их свадебной – и единственной! – фотографией, та осталась на столе у изголовья кровати, и ее никогда, никогда теперь не вернуть! Быстрая страшная мысль мгновенно лишила женщину сил и воли к борьбе – она словно осталась без магического талисмана, священного тотема, утратила путеводную звезду… Правая одеревеневшая рука оторвалась от рамы, взметнулась… Хрупкое тело рывком дернуло влево, на волю бесчувственных от железного холода слабых пальцев – и они беспомощно разжались; стало стремительно удаляться запрокинутое небо.
Наконец оно резко остановилось, зависло высоко над беззвучно упавшей на спину маленькой женщиной, приняло свою единственно возможную здесь форму – квадратную – и жемчужная голубизна померкла. Сотрясение медленно проходило. Боли не было вовсе, словно тонкое тело приняла в себя какая-то давняя детская перинка… Точно, перинка, и мама – или не мама, вернее, не совсем мама, но это неважно теперь – неспешно качает теплую колыбель.
– Видишь, я попыталась, но у меня не получилось… – виновато пожаловалась кому-то юная женщина, не размыкая губ. – У меня же крыльев-то нету…
– Скоро будут, – ответили ей. – Ну вот, уже есть… Что ты лежишь? Полетели.
Часть 1
Глава 1. Пустая шоколадина
О, слава, слава русскому народу!
Свершилось ныне чудо из чудес:
Народ себе завоевал свободу,
Народ воскрес – воистину воскрес!
Т. Щепкина-Куперник
Февральский, без пяти минут весенний Петроград выглядел в том году как большая черно-белая фотокарточка, попавшая в руки беспечному художнику: взял он беличью кисть, щедро обмакнул ее в неразбавленную алую краску – да и стряхнул над унылой картонкой. И вспыхнул невзрачный мир красными гвоздиками, розами и маками, и сами собой расцветали вокруг искренние улыбки… Городовые с их грозными бляхами враз исчезли с праздничных улиц, сметены были возбужденной толпой с яркими отметинами на одежде: выйти в те дни на улицу без пышно пламенеющего банта значило не больше не меньше предать саму гордую деву Революцию.
Чуть посинел в сумерках воздух – и тотчас загорелись повсюду высокие костры, озарявшие тысячи вдохновенных лиц, и был братом человек человеку: застегнутый на все пуговицы учитель в котелке и пенсне ломал пополам свою зачерствевшую осьмушку ржаного хлеба, от души угощая усатого солдата в перечеркнутой багряной полосой лихо сидевшей шапке, утонченная барышня в вуалетке, как с подругой, щебетала с чужой волоокой горничной…
В ночь на последний зимний день 1917 года из Таврического дворца весело летел небольшой «бьюик» с откинутым верхом – и в нем тоже горели словно четыре маленьких костерка – трепетали на ветру яркие ленты бантов на двух студенческих шинелях, одном тощеньком девичьем и одном солидном мужском пальто. Трое из бантоносцев знакомы были уже достаточно давно, оттого и зачислились в одну революционную санитарную бригаду, и дежурство в Таврическом дворце всегда несли одновременно. Два студента выпускного курса физмата – Володя Хлебцевич и Савва Муромской – трогательно дружили со студенткой Женского медицинского института Леной Шупп, третьим важным участником их бригады (причем Савва небезосновательно подозревал, что просто и честно дружит с «Лелей» только он сам, а товарищ его Володя испытывает чувства куда более романтические). Молодой жизнерадостный доктор, недавно выпустившийся из академии, был сегодня принудительно добавлен к ним в нагрузку, потому что, не имея лекарского диплома, Лена пока могла только исполнять обязанности сестры милосердия, и к ее распахнутым льдистым глазам очень шел скромный белый повойничек с красным крестом, ниспадавший на суконное с седой полоской каракуля пальтишко.
По ночному революционному городу к местам перестрелок ездили они втроем уже не первый раз, бесстрашно неся человеколюбивую службу: оказывали первую помощь раненым, при необходимости подбирали их и доставляли в ближайшие госпитали. Когда втроем дежурили, двоих недужных вполне можно было втиснуть на заднее сиденье, а сейчас, с доктором, сзади помещался только один раненый, второго же пришлось бы класть поперек, на колени сидящим, что вызывало у всех легкое недоумение. Шоффэром в бригаде бессменно трудился Савва – высокий худой молодой человек, в котором тем не менее чувствовалась немалая физическая сила: ловкий, поджарый, быстрый и точный в движениях, он, при всей чисто русской неброскости внешнего вида, невольно заставлял любоваться собой. Выучиться управлять автомобилем ему посчастливилось двумя годами раньше, летом на даче, когда богатый владелец соседнего имения приобрел себе техническую новинку и нанял к ней шоффэра-профессионала – добродушного основательного дядьку, который охотно подружился с пытливым студентом, желавшим во всем добраться до сути, и, убедившись в неподдельном интересе юного друга и отсутствии от него какой-нибудь угрозы для своего подопечного новенького «доджа», вскоре допустил его до сверкающего авто, тайком разрешая садиться за руль на полевой дороге и разгоняться даже до тридцати верст. Теперь в революционном Петрограде, где извозчики попрятались, а трамваи встали, Савва быстро наловчился лихо рулить в потемках в свете солдатских костров, пронзительно гудя в клаксон и безмолвно гордясь изяществом своей шоффэрской повадки.
Володя Хлебцевич, приятель его по университету, казался увальнем – крупный, русоволосый, с типичным мягким хорошим лицом и большим благородным сердцем. Он писал и с удовольствием декламировал стихи, увлекался экономикой и даже недавно разразился каким-то трактатом в подражание Марксу – Савва хорошо помнил его название: «Золото как посредник обмена» – в прошлом году на еще не революционном студенческом собрании Володя делал доклад и краснел, как институтка, от дружеской похвалы. И новаторству был совсем не чужд милый Володя: про его проект летательного велосипеда слышал на физмате, наверное, даже швейцар. А что? Это при косном царском режиме, душившем все живое в науке, таким романтикам ходу не было, а теперь, когда свободная мысль вот-вот восторжествует навсегда, – возьмут да и полетят Володины велосипеды в синем небе! В патруле Володя участвовал, конечно же, ради Лены, к которой относился очень трепетно, – ну, и медвежья мощь его, когда несчастных надо было практически нести в авто, не раз за последние тревожные дни пригождалась.
Пригодиться могла и сегодня, когда мчались они из Таврического на Васильевский остров, где, как телефонировали, все не мог угомониться лейб-гвардейский Финляндский полк, затеявший уже бессмысленную перестрелку с восставшими солдатами и рабочими. Доктор, отпускавший вполне приличные в присутствии барышни шутки, и взволнованный Володя сидели позади, Лена – рядом с Саввой, и все смеялись даже глупым анекдотам: радостное возбуждение в ожидании чего-то невыразимо прекрасного, готового вот-вот наступить, охватило в те дни буквально всех, общая приподнятость над землей ощущалась любым восприимчивым сердцем. Даже вошедший последнее время в привычку легкий голод не становился поводом для особого огорчения – потому что Революция же! – значит, скоро будет много всего и для всех.
– Все-таки жаль, что так сразу выехали, даже супу тепленького не успели поесть… – с беззаботной грустью произнесла вдруг Лена.
– Лелечка, мы сейчас только посмотрим, что там, и сразу обратно, – немедленно ласково наклонился к ней Володя. – Слышишь, там, кажется, стихает уже. Наши порции нас дождутся, можешь быть уверена…
– Да, а сейчас поешь вот, – неосознанно и без всякого желания соперничая с Володей, Савва залез на ходу в свой карман, доставая аккуратный сверток, полученный утром от мамы. – Из дома.
Лена неуверенно взяла угощение и, взглянув на тонкий кусок мяса между двух лепесточков хлеба, обрадовалась:
– Сэндвич! Ой, Савка, у тебя был, можно сказать, целый обед в кармане, а ты молчал, жадина-говядина, пустая шоколадина… – и она принялась энергично жевать.