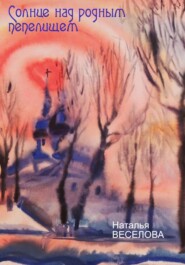По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Олений колодец
Год написания книги
2024
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Начало в дальнейшем только усугублявшемуся разладу с обществом положил тот печальный факт, что в первый же детсадовский день общество слаженно побило Савву всей мальчишечьей половиной средней группы – прямо в спальне в начале тихого часа. Он не успел тогда наладить ни с кем даже приятельских отношений, был по этому поводу несколько грустен и озадачен, лежал, философски закинув руки за голову в светлой полутьме спальной комнаты – и вдруг заметил, что крепыш-сосед тайком рассматривает под одеялом контрабандой пронесенную небольшую яркую машинку. «Дай, пожалуйста, посмотреть…» – вежливо прошептал Савва, смутно надеясь установить первый дружественный контакт, – и протянул руку через узкий проход между кроватями. Крепыш ответил не сразу. Сначала он быстро окинул хилого белобрысого интеллигентика мутными, как у хозяйского хряка на даче, глазами, без предупреждения и особого замаха коротко ударил ребром ладони по шее и только потом, выдвинув нижнюю челюсть, басом, с растяжкой произнес: «Иди отсюдэ-э!». Треснуть обидчика в ответ Савва не решился, правильно оценив весовые категории, но последнее слово решил все-таки оставить за собой: «Подумаешь, жадина-говядина, турецкий барабан…» – пробормотал он, отворачиваясь, но вот это оказалось совершенно лишним. Враг медленно и грозно поднялся во весь рост на кровати и, оборачиваясь на еще не заснувших сподвижников, абсолютно недетским, сиплым голосом воззвал: «Ребцы-ы! Эта сопля меня турецким барабаном дразнит!!!». Подмога подоспела немедленно, и, выслушав только «пострадавшую» сторону – разобиженного вожака стаи, – мальчишки быстро оглушили Савву подушкой, после чего, навалившись потным скопом, стали очень деловито и по-взрослому избивать, по ходу дела поясняя суть его преступления: «Жадина-говядина – пустая шоколадина, понял?!! Сам ты барабан!!» Барабаном он в те минуты ощущал себя вполне но звать на помощь или терпеть молча не позволила, вероятно, наследственная гордость: в раже не чувствуя боли от ударов, четырехлетний паренек отбивался руками и ногами, кусался, когда что-то живое подворачивалось под раскрытый рот, и упрямо повторял: «…кто на нем играет – тот рыжий таракан!!!» – и упомянутые тараканы, наверное, сильно покалечили бы его, если б на шум не прибежала дюжая няня.
На следующий день Савву – не то жертву, не то героя с подпухшей губой и малиновой шишкой на лбу – перевели в другую группу: к счастью, именно средних в тот год оказалось в детском саду целых две.
Как мальчик понял несколько позже, его невинно подставил юный очкастый коллега по песочнице, приехавший в конце лета погостить к бабушке из Москвы. У малышей иногда произвольно меняли собственников симпатичные ведерки, формочки и совочки, отчего между приятелями происходили мелкие незлые разбирательства, и очкарик необидно дразнился так, как успел выучиться в родном городе, вовсе не подозревая, что Питер, как детский, так и взрослый, говорит немножко на другом языке…
Но даже спустя около полувека с того дня, когда был побит так, что впервые близко увидел собственную кровь, высокий, худощавый, светловолосый, стильно стриженный «под пажа», богемного вида абсолютный петербуржец во всем, Савва Барш упорно при случае ругал скупердяев по-московски – «турецкими барабанами»: в этом заключалась для него какая-то особая, совершенно необходимая правда.
* * *
Все нормальные дети рисовали каляки-маляки, а он – запойно лепил все подряд. Акварельные краски с кисточками и альбомы пылились в безвестности, зато стратегические запасы пластилина пополнялись мамой и прадедушкой Васей ежемесячно, причем покупать одну скромную коробочку никому из них даже в голову не приходило, брали во «Фрунзенском» минимум две больших, и расход на пластилин закладывался в семейный бюджет так же незыблемо, как на дедушкин портвейн, вливаемый в чай «для вкуса», или мамино селедочное масло, за которым она упорно ездила после работы «к Елисеевым». На маленькую – или полноразмерную, смотря по величине оригинала, – пластилиновую копию рассчитывать мог почти любой объект, на который падал жадный глаз юного ваятеля. В его комнате на двух широких подоконниках – и вообще всех горизонтальных поверхностях, исключая разве что пол, лежали, стояли и сидели пластилиновые карандаши и книги с картинками, деревце с разноцветными листьями, каждый из которых имел неповторимый узор из прожилок, седая причесанная бабушка с вязаньем на коленях и клубком у ноги, полосатая кошка, придавившая мышь когтистой лапой, а у мыши был вывален набок алый язык, и суровый, мохнатый, шерстинка к шерстинке, пес с клыками и косточкой в грозной пасти…
Лет в шесть Савва задался целью изваять собственную левую – потому что правой нужно было лепить – худенькую кисть, и почти справился с задачей: и синие вены изобразил, и розовые ногти, и кожные складочки на суставчиках добросовестно процарапал… Все хорошо, только получилась чья-то чужая рука – просто в том же положении, что и его собственная. Дедуля подошел, посмотрел, похвалил и добавил: «А теперь я расскажу тебе, как сделать, чтоб вышла точная копия твоей – или любой другой». С этого дня пластилин был на некоторое время заброшен, в ход пошел купленный дедушкой гипс и килограммы вазелина… Сначала получалось плохо – все какие-то тюленьи ласты да лягушечьи лапки, а когда, наконец, проклюнулись человеческие пальцы, то бесконечно отламывались в последний момент – и хотелось смести, психанув на секунду, все неудачное рукомесло со стола… Но через месяц его костистая детская ручка вышла почти безупречно – и что-то в необщем ее выражении говорило о хорошем – не каменном – упорстве хозяина. За ней легко родилась в гипсе благородная дедулина кисть – крупная и длиннопалая, привыкшая легко управляться с элегантными и слегка опасными на вид стальными инструментами, спрятанными теперь в синем бархатном нутре старинной кожаной готовальни, но знававшая когда-то и рояльные клавиши, и атлас женской кожи… Следующей – и уже совершенной – закономерно стала трудовая мамина рука – небольшая и скромная, с коротко остриженными ногтями, лишенная всякой артистичности, навечно любимая… Савва успокоился: теперь он овладел этим нехитрым ремеслом, можно было возвращаться к настоящему творчеству – и он вновь решительно занялся родным пластилином.
Дедуля умер через семь лет, мама – через тридцать, собственные Саввины руки претерпели необратимые метаморфозы, а белые слепки, кропотливо созданные шестилетним мальчишкой, остались прежними, и взрослого успешного медальера порой тянуло достать их из-за стекла на верхней полке, тихонько поставить в рядок на стол… И тогда начинало просвечивать мутное вещество времени, невесть откуда тянуло пирожками с капустой, и, казалось, мама сейчас внесет их на красивой фаянсовой тарелке с очень странным выпуклым узором в виде сбившейся в сторону тканой салфетки с бахромой – но это будет еще не общее дружное чаепитие, а предварительная возможность заморить червячка им с прадедушкой Васей, пока они замерли голова к голове над старинным альбомом с фотографиями…
Фотографии из нескольких маленьких дедушкиных альбомчиков стали второй отрадой его детства. Взрослым, прикидывая и так и этак, Савва все равно не смог достоверно разобраться, почему они так привлекали и волновали его в детстве. Люди в смешных одеждах, чьи черно-белые тени, как печальные привидения, населяли серые картонные страницы, были ему совершенно незнакомы, и к тому времени почти все давно уже умерли, о чем не раз говорил дедуля. В живых на тот момент оставались, пожалуй, только два разведенных во времени на двадцать три года серьезных карапуза, лежавших попой вверх голышом на вышитых скатерках: один вырос в Саввиного равнодушного деда, а другой – в его же и вовсе сгинувшего из семьи отца. Все остальные глядели на мальчика уже сквозь дымку вечности – а вот поди ж ты! – некоторыми он так проникся, что держал едва ли не за друзей! Эти фотографии тоже во многом помогли утвердиться будущей вере Саввы в личное человеческое бессмертие: ребенком он совершенно определенно знал, что люди, с которыми ты встречаешься глазами уютными вечерами в дедушкиной каморке, живы точно так же, как и ты сам, только находятся в другом месте, пока – но лишь пока! – недоступном. Маленькое сердчишко настолько не сомневалось в грядущей встрече с новыми знакомцами в само собой разумеющемся «там», что он наивно распределял меж ними пластилиновые и другие ценные подарки, о чем и рассказывал доверчиво никогда не возражавшему на это прадеду. Слово «умер» у них запретным – и даже особо ужасным – не считалось, ни тени страха, когда оно звучало, не падало на строгое, как из светлого дерева вырезанное дедулино лицо, и вслед за ним не привык стеснительно обходить его и детсадовец Савва. Он с сочувствием смотрел на четкую коричневатую фотографию невозможно красивой женщины с узлом блестящих светлых волос, снятую в конце тридцатых, – и знал, что дедуля, которого в блокаду перевели на казарменное положение («Не отпускали домой, а заставляли жить на работе», – просто объяснил ребенку прадед), лишь в конце февраля сорок второго получил первый отпуск. Едва добравшись пешком до этого самого дома, он нашел ее, свою смертно любимую жену, уже промерзшей насквозь, идеально белой, превратившейся словно в фарфоровую статую. Прабабушка Зоя пролежала мертвой на сорокаградусном морозе не менее месяца, и когда муж бережно заворачивал ее в лучшее покрывало, чтобы везти на саночках хоронить, то панически боялся, что она и хрупкой стала, как фарфор, и сейчас разобьется на мелкие осколки, – хотя умом и знал невозможность такого ужаса… «Бабуля, я тебе брошку подарю… – шептал ей Савва на полном серьезе. – Ну ту, черную с голубыми камнями, которую мы с дедушкой в Польском садике нашли. Она очень красивая – только мама ее почему-то не захотела. А тебе точно понравится…»
Но дореволюционные фотокарточки привлекали гораздо больше. Почему? Савва так никогда не разобрался и в этом. Дошкольником он весьма смутно понимал, что такое революция, – сбивчиво объясняли воспитатели про какой-то «октябрь», к которому имел отношение дедушка Ленин – «наш вождь», да маму «гоняли на демонстрацию на ноябрьские». Но незримый водораздел между эпохами мальчик неизменно проводил в нужном месте: «А это до революции или после?» – и, получив ответ, что «до», загорался немедленным интересом. Жизнь «до», определенно, была абсолютно другой, и он хотел бы жить именно так – вот какое четкое знание у него в те годы имелось!
«А это? – спросил он в очередной раз, наткнувшись на почему-то обойденную раньше вниманием и сидевшую в тисненой картонной ячейке фотографию, где на невнятном казенном фоне сидел в кресле студент в тужурке и фуражке – а рядом стояла девушка в круглой шляпке, но не в дореволюционной юбке до пят, а в укороченной, позволявшей видеть смешные остроносые ботинки с высокой шнуровкой. – До или после?» И вдруг дедушка чуть-чуть потемнел лицом, оно словно на секунду застыло от воспоминания. Впервые ответил непривычно жестко: «Вскоре после. Это мой друг Савва с женой. Они только что обвенчались. Не вздумай вынимать, пожалуйста, – и вообще не трогай». Присмиревший мальчик мгновенно понял, что настаивать не следует…
Но была и третья большая радость в его дошкольном детстве: дедулины «штуки» в его «конурке».
Еще с первого юбилея Великого Октября, когда большую профессорскую квартиру родителей Васеньки Барша удачно порезали в месте, где загибался длинный коридор, оставив на шестерых две комнаты, кухню и темный ватерклозет для прислуги, – что было роскошью, ибо квартира осталась отдельной, – молодой инженер, получивший диплом физмата летом 19-го, добровольно поселился в чулане. Он был большим индивидуалистом, этот некомсомолец двадцатых, и сторонником невероятных по тем временам чудачеств: вставал, например, на час раньше, чтобы не умываться у кухонного крана на глазах у понукающих друг друга разнополых членов семьи, не выносил, когда его рубашку или брюки надевал брат, спать предпочитал в своей каморке один, а не в гостиной за шкафом, и шестиметровую эту клетушку обустроил и украсил так, что младший и старший братья позавидовали прагматику-среднему – да поздно… Во время уплотнения и реквизиции Васенька успел расторопно занести в освобожденную от хлама кладовку хороший письменный стол с зеленым суконным верхом, стеклянную лампу с бронзовой лапой орла вместо ножки, замечательное рабочее кресло красного дерева, двустворчатый платяной шкаф – и еще осталось место, чтобы втиснуть небольшую резную этажерку и кушетку для сна. Собственно, на этой никем не учтенной жилплощади Василий уединенно прожил всю жизнь, даже единственного сына там зачал: молодая жена приходила к нему в чулан «в гости» из-за ширмы в комнате, где жила вдвоем с золовкой… Васиных родителей сослали в Среднюю Азию как вредный элемент, один брат погиб на Финской, другой – на Отечественной, сестра вышла замуж перед войной и съехала, жена умерла в блокаду, но сына удалось сохранить: родившись в двадцать восьмом, он не успел угодить на фронт, был удачно эвакуирован из города до начала осады и, вернувшись, создал собственную семью, а потом переехал с супругой на Правый берег, оставив в квартире уже своего сына с женой и маленьким Саввой… Словом, семейная жизнь почти всегда текла рядом с прадедушкой Василием, жившим в комнате, которой как бы не было, то есть в своего рода параллельном мире; он вмешивался в текущие события лишь по мере надобности, ревниво блюдя тот крошечный кусочек земного пространства, который сознательно отвоевал себе в страшные годы, когда земля уходила из-под ног. Там он тихонько делал свои блестящие инженерные изобретения, вычерчивая их под хрестоматийной зеленой лампой, молился перед двумя небольшими иконами в латунных окладах и любовался маленькой коллекцией красивых, до времени бесполезных предметов, спасенных тогда же, в самом начале, от завистливых буркал многоликого хама. В святилище допускались немногие избранники, сами того по-доброму желавшие: обожаемая жена, жалеемая невестка по внуку и правнук, при виде которого сердце старого Барша банально таяло и которому одному позволялось брать в руки дедулины сокровища.
В сущности, это были просто безделушки – с дюжину или чуть больше. Но таких по-настоящему волшебных штуковин детсадовец Савва уже нигде, кроме как у прадедушки, увидеть не мог: все, что продавалось в магазинах, казалось настолько скучным и убогим, что нападала тоска. Нет, встречались, бывало, в магазинах посуды неубедительно раскрашенные фигурки, непонятно из чего сделанные, – но в какое сравнение они могли идти с совершенно живой, только миниатюрной, серебряной крыской, таившей особый, будоражащий огонек в злых изумрудных глазах? Или с эмалевым букетиком фиалок, алмазно сверкавшим микроскопическими капельками росы на так и дышащих свежестью лепестках? Или с бронзовой – и все-таки меховой! – гусеницей, отдыхающей на аметистовом чертополохе? Там была и половинка граната с сочными зернами, при взгляде на которые слюна набиралась во рту, и таинственный латунный скарабей с малахитовой спинкой, и облитый черным лаком веселый котенок с лукавым янтарным взглядом, гоняющий по ониксовой подставке скомканную бумажку из костяного фарфора… Надо всем этим Савва буквально не дышал – не из опасения повредить, а от высокого страха перед Прекрасным. И он ни разу не пытался попросить у прадедушки какую-нибудь фигурку в подарок – и опять не потому, что боялся отказа, который, может, и не последовал бы, а от четкого осознания своей недостойности: так грешник и мечтать не смеет о рае…
Когда прадедушка умер, Савве как раз исполнилось тринадцать лет, и о кончине девяностолетнего старца искренне и сильно горевал только он, подросток. Кремация состоялась возмутительно быстро и по-деловому, словно родственники сами его убили и теперь торопились избавиться от тела; дедушка-сын – стоял с отсутствующим видом, мама была чуть-чуть печальна – но и только, Саввин папа, которого юноша ждал с некоторым внутренним смущением, не приехал вовсе… Зато вечером в их притихшей квартире, возвестив о себе длинным верещанием дверного звонка, явилась дедушкина жена – почти незнакомая Савве бабушка. Собственно, до того момента он представлял себе бабушек совершенно иначе. Во всяком случае, не в виде стройных, нарядных и злых, как черти, женщин в дымчатых очках и со стрижкой «каскад», точь-в-точь такой, как носили в том году его одноклассницы. Влетев в прихожую с огромной спортивной сумкой в руках, она и не подумала поздороваться с кем-то или снять сапоги на шпильке – а сразу, остро стуча каблуками, рванулась в дедулино опустелое убежище. К маме, пытавшейся мирно ее образумить, бывшая свекровь обернулась со зверским лицом и прошипела: «Ты… Только попробуй мне тут… Только вякни… Небо с овчинку покажется! Тебя и так мой придурок-сын озолотил… Потаскуху из барака взял и квартиру в центре Питера подарил, кретин… Но что от деда осталось – уж точно наше, потому что он моему мужу отец родной. Отойди в сторону и не путайся под ногами! Тут и Фаберже, чего доброго, может оказаться – не дарить же шалаве с ее отродьем…» Мама молча отступила, опустив голову.
Прижавшись друг к другу в дверях кладовой, они с Саввой смотрели, как сорванные из угла иконы летят в разинутую пасть сумки, а альбомы, бегло пролистнутые, – на пол; как с этажерки и из ящиков выдираются редкие старые книги, как небрежно пакуются в коробку с ватой одна за другой хрупкие безделушки со стола, как даже настольная лампа исчезает в черных клеенчатых недрах…
«За мебелью и картинами грузовик придет утром, – предупредила бабушка перед уходом. – Так что свое барахло заранее убери. Иначе на помойку отправлю». Но тут она жестоко просчиталась, потому что ночью мама тихо кому-то звонила, давясь слезами в трубку, и в результате грузовик с бабушкой и рабочими встретил грозный майор милиции в форме. «Мой знакомый…» – стеснительно представила его мама сыну, и тот простодушно обрадовался заступничеству, лишь спустя годы осознав, что бравый милиционер был, скорей всего, маминым любовником: ей ведь исполнилось тогда всего тридцать два, и неброская северная красота ее как раз стояла в последнем летнем расцвете…
Мебель прошлого века осталась на своих местах, пейзажи в бронзовых рамах не покинули стен, испуганная бабушка, бессильно сверкая очками, исчезла навеки – но с ней вместе пропали и прекрасные старинные вещицы, спасенные когда-то дедулей, а правнуком упущенные… Горю Саввы не было предела. Целый год он трудился ночами, кропотливо воссоздавая коллекцию по памяти из пластилина, раскрашивал, лакировал, расставлял по местам – и так постепенно избывал тоску по родному человеку, словно создавая ему настоящий, а не могильный памятник.
Тогда же он окончательно определился и с будущей профессией, сразу после восьмого класса ловко поступив в знаменитый Серовник[26 - Санкт-Петербургское художественное училище имени Н. К. Рериха, до 1992 года – Ленинградское художественное училище (ЛХУ) имени В. А. Серова.] на скульптурное отделение и впоследствии став оригинальным и востребованным медальером. Но всю взрослую жизнь Савва Барш не мог забыть утраченную фамильную коллекцию и упорно собирал свою: отмечая, как праздники, особенные, только ему одному известные вехи жизни (удачная, нерядовая медаль; победа над глупой несчастной любовью; первая в жизни человеческая беседа со взрослым сыном; истинно красивая женщина – такая, что не забудешь, одарившая мимолетной улыбкой…). Желая дополнительно увековечить память об одном из таких тайных, но грандиозных событий, он позволял себе пойти в антикварный магазин и выбрать, не глядя на цену, ладно легшую на? душу вещицу. Очень редко и всегда неожиданно, как особый знак свыше, являлась драгоценная награда: точно такая же вещь, какую он помнил под лампой у прадедушки Васи, вдруг приходила в руки сама, заставляя сердце болеть от счастья, и тогда он робко надеялся, что та самая реликвия просто взяла и вернулась в законный дом…
Как отличник учебы Савва оказался после училища на завидной должности в монетном дворе, где очень быстро полез на стенку – прикованный к конвейеру и абсолютно обескрыленный, обреченный на вечную отливку форм по чужим эскизам. Но, к его молодому счастью, Россия преподнесла ему на совершеннолетие очередную народную революцию – и вскоре вокруг взыграла такая буря общественного и личного тщеславия, что стало возможным почти сытно жить частными заказами. Постепенно множились знакомства среди бурливших тем или иным творчеством индивидуумов, мечтавших увековечить себя в бронзе пока хотя бы на личной медали, новые политики всех мастей, щеголяя друг перед другом, случалось, заказывали сразу сотню, платя твердой валютой… Савва красиво засветился на нескольких художественных выставках, его начали узнавать, хвалить, рекомендовать…
Дело пошло. Глубокий индивидуалист, как и прадед, он, тем не менее, скоро научился не ссориться с социумом явно – ибо негоже кусать кормящую руку, – но сумел обрести душевную гармонию, работая в слегка переоборудованном под новые требования жизни чулане прадедушки Васи – наедине с драгоценными воспоминаниями и упорно хранимыми, обещающими со временем превратиться в изящные окаменелости, пластилиновыми копиями утраченных сокровищ. В конце концов, то, чем он теперь профессионально занимался, не так уж сильно и отличалось от того отчаянного, то и дело прерывавшегося тайными слезами, годичного труда, результатом которого они явились.
А ночами, откинувшись в дедулином удобном рабочем кресле, ничуть почти за век не расшатавшемся, он с трепетом отдаленного узнавания читал отвергнутое когда-то бабушкой и брошенное ею на пол вместе с фотоальбомами растрепанное Евангелие.
На следующий день Савву – не то жертву, не то героя с подпухшей губой и малиновой шишкой на лбу – перевели в другую группу: к счастью, именно средних в тот год оказалось в детском саду целых две.
Как мальчик понял несколько позже, его невинно подставил юный очкастый коллега по песочнице, приехавший в конце лета погостить к бабушке из Москвы. У малышей иногда произвольно меняли собственников симпатичные ведерки, формочки и совочки, отчего между приятелями происходили мелкие незлые разбирательства, и очкарик необидно дразнился так, как успел выучиться в родном городе, вовсе не подозревая, что Питер, как детский, так и взрослый, говорит немножко на другом языке…
Но даже спустя около полувека с того дня, когда был побит так, что впервые близко увидел собственную кровь, высокий, худощавый, светловолосый, стильно стриженный «под пажа», богемного вида абсолютный петербуржец во всем, Савва Барш упорно при случае ругал скупердяев по-московски – «турецкими барабанами»: в этом заключалась для него какая-то особая, совершенно необходимая правда.
* * *
Все нормальные дети рисовали каляки-маляки, а он – запойно лепил все подряд. Акварельные краски с кисточками и альбомы пылились в безвестности, зато стратегические запасы пластилина пополнялись мамой и прадедушкой Васей ежемесячно, причем покупать одну скромную коробочку никому из них даже в голову не приходило, брали во «Фрунзенском» минимум две больших, и расход на пластилин закладывался в семейный бюджет так же незыблемо, как на дедушкин портвейн, вливаемый в чай «для вкуса», или мамино селедочное масло, за которым она упорно ездила после работы «к Елисеевым». На маленькую – или полноразмерную, смотря по величине оригинала, – пластилиновую копию рассчитывать мог почти любой объект, на который падал жадный глаз юного ваятеля. В его комнате на двух широких подоконниках – и вообще всех горизонтальных поверхностях, исключая разве что пол, лежали, стояли и сидели пластилиновые карандаши и книги с картинками, деревце с разноцветными листьями, каждый из которых имел неповторимый узор из прожилок, седая причесанная бабушка с вязаньем на коленях и клубком у ноги, полосатая кошка, придавившая мышь когтистой лапой, а у мыши был вывален набок алый язык, и суровый, мохнатый, шерстинка к шерстинке, пес с клыками и косточкой в грозной пасти…
Лет в шесть Савва задался целью изваять собственную левую – потому что правой нужно было лепить – худенькую кисть, и почти справился с задачей: и синие вены изобразил, и розовые ногти, и кожные складочки на суставчиках добросовестно процарапал… Все хорошо, только получилась чья-то чужая рука – просто в том же положении, что и его собственная. Дедуля подошел, посмотрел, похвалил и добавил: «А теперь я расскажу тебе, как сделать, чтоб вышла точная копия твоей – или любой другой». С этого дня пластилин был на некоторое время заброшен, в ход пошел купленный дедушкой гипс и килограммы вазелина… Сначала получалось плохо – все какие-то тюленьи ласты да лягушечьи лапки, а когда, наконец, проклюнулись человеческие пальцы, то бесконечно отламывались в последний момент – и хотелось смести, психанув на секунду, все неудачное рукомесло со стола… Но через месяц его костистая детская ручка вышла почти безупречно – и что-то в необщем ее выражении говорило о хорошем – не каменном – упорстве хозяина. За ней легко родилась в гипсе благородная дедулина кисть – крупная и длиннопалая, привыкшая легко управляться с элегантными и слегка опасными на вид стальными инструментами, спрятанными теперь в синем бархатном нутре старинной кожаной готовальни, но знававшая когда-то и рояльные клавиши, и атлас женской кожи… Следующей – и уже совершенной – закономерно стала трудовая мамина рука – небольшая и скромная, с коротко остриженными ногтями, лишенная всякой артистичности, навечно любимая… Савва успокоился: теперь он овладел этим нехитрым ремеслом, можно было возвращаться к настоящему творчеству – и он вновь решительно занялся родным пластилином.
Дедуля умер через семь лет, мама – через тридцать, собственные Саввины руки претерпели необратимые метаморфозы, а белые слепки, кропотливо созданные шестилетним мальчишкой, остались прежними, и взрослого успешного медальера порой тянуло достать их из-за стекла на верхней полке, тихонько поставить в рядок на стол… И тогда начинало просвечивать мутное вещество времени, невесть откуда тянуло пирожками с капустой, и, казалось, мама сейчас внесет их на красивой фаянсовой тарелке с очень странным выпуклым узором в виде сбившейся в сторону тканой салфетки с бахромой – но это будет еще не общее дружное чаепитие, а предварительная возможность заморить червячка им с прадедушкой Васей, пока они замерли голова к голове над старинным альбомом с фотографиями…
Фотографии из нескольких маленьких дедушкиных альбомчиков стали второй отрадой его детства. Взрослым, прикидывая и так и этак, Савва все равно не смог достоверно разобраться, почему они так привлекали и волновали его в детстве. Люди в смешных одеждах, чьи черно-белые тени, как печальные привидения, населяли серые картонные страницы, были ему совершенно незнакомы, и к тому времени почти все давно уже умерли, о чем не раз говорил дедуля. В живых на тот момент оставались, пожалуй, только два разведенных во времени на двадцать три года серьезных карапуза, лежавших попой вверх голышом на вышитых скатерках: один вырос в Саввиного равнодушного деда, а другой – в его же и вовсе сгинувшего из семьи отца. Все остальные глядели на мальчика уже сквозь дымку вечности – а вот поди ж ты! – некоторыми он так проникся, что держал едва ли не за друзей! Эти фотографии тоже во многом помогли утвердиться будущей вере Саввы в личное человеческое бессмертие: ребенком он совершенно определенно знал, что люди, с которыми ты встречаешься глазами уютными вечерами в дедушкиной каморке, живы точно так же, как и ты сам, только находятся в другом месте, пока – но лишь пока! – недоступном. Маленькое сердчишко настолько не сомневалось в грядущей встрече с новыми знакомцами в само собой разумеющемся «там», что он наивно распределял меж ними пластилиновые и другие ценные подарки, о чем и рассказывал доверчиво никогда не возражавшему на это прадеду. Слово «умер» у них запретным – и даже особо ужасным – не считалось, ни тени страха, когда оно звучало, не падало на строгое, как из светлого дерева вырезанное дедулино лицо, и вслед за ним не привык стеснительно обходить его и детсадовец Савва. Он с сочувствием смотрел на четкую коричневатую фотографию невозможно красивой женщины с узлом блестящих светлых волос, снятую в конце тридцатых, – и знал, что дедуля, которого в блокаду перевели на казарменное положение («Не отпускали домой, а заставляли жить на работе», – просто объяснил ребенку прадед), лишь в конце февраля сорок второго получил первый отпуск. Едва добравшись пешком до этого самого дома, он нашел ее, свою смертно любимую жену, уже промерзшей насквозь, идеально белой, превратившейся словно в фарфоровую статую. Прабабушка Зоя пролежала мертвой на сорокаградусном морозе не менее месяца, и когда муж бережно заворачивал ее в лучшее покрывало, чтобы везти на саночках хоронить, то панически боялся, что она и хрупкой стала, как фарфор, и сейчас разобьется на мелкие осколки, – хотя умом и знал невозможность такого ужаса… «Бабуля, я тебе брошку подарю… – шептал ей Савва на полном серьезе. – Ну ту, черную с голубыми камнями, которую мы с дедушкой в Польском садике нашли. Она очень красивая – только мама ее почему-то не захотела. А тебе точно понравится…»
Но дореволюционные фотокарточки привлекали гораздо больше. Почему? Савва так никогда не разобрался и в этом. Дошкольником он весьма смутно понимал, что такое революция, – сбивчиво объясняли воспитатели про какой-то «октябрь», к которому имел отношение дедушка Ленин – «наш вождь», да маму «гоняли на демонстрацию на ноябрьские». Но незримый водораздел между эпохами мальчик неизменно проводил в нужном месте: «А это до революции или после?» – и, получив ответ, что «до», загорался немедленным интересом. Жизнь «до», определенно, была абсолютно другой, и он хотел бы жить именно так – вот какое четкое знание у него в те годы имелось!
«А это? – спросил он в очередной раз, наткнувшись на почему-то обойденную раньше вниманием и сидевшую в тисненой картонной ячейке фотографию, где на невнятном казенном фоне сидел в кресле студент в тужурке и фуражке – а рядом стояла девушка в круглой шляпке, но не в дореволюционной юбке до пят, а в укороченной, позволявшей видеть смешные остроносые ботинки с высокой шнуровкой. – До или после?» И вдруг дедушка чуть-чуть потемнел лицом, оно словно на секунду застыло от воспоминания. Впервые ответил непривычно жестко: «Вскоре после. Это мой друг Савва с женой. Они только что обвенчались. Не вздумай вынимать, пожалуйста, – и вообще не трогай». Присмиревший мальчик мгновенно понял, что настаивать не следует…
Но была и третья большая радость в его дошкольном детстве: дедулины «штуки» в его «конурке».
Еще с первого юбилея Великого Октября, когда большую профессорскую квартиру родителей Васеньки Барша удачно порезали в месте, где загибался длинный коридор, оставив на шестерых две комнаты, кухню и темный ватерклозет для прислуги, – что было роскошью, ибо квартира осталась отдельной, – молодой инженер, получивший диплом физмата летом 19-го, добровольно поселился в чулане. Он был большим индивидуалистом, этот некомсомолец двадцатых, и сторонником невероятных по тем временам чудачеств: вставал, например, на час раньше, чтобы не умываться у кухонного крана на глазах у понукающих друг друга разнополых членов семьи, не выносил, когда его рубашку или брюки надевал брат, спать предпочитал в своей каморке один, а не в гостиной за шкафом, и шестиметровую эту клетушку обустроил и украсил так, что младший и старший братья позавидовали прагматику-среднему – да поздно… Во время уплотнения и реквизиции Васенька успел расторопно занести в освобожденную от хлама кладовку хороший письменный стол с зеленым суконным верхом, стеклянную лампу с бронзовой лапой орла вместо ножки, замечательное рабочее кресло красного дерева, двустворчатый платяной шкаф – и еще осталось место, чтобы втиснуть небольшую резную этажерку и кушетку для сна. Собственно, на этой никем не учтенной жилплощади Василий уединенно прожил всю жизнь, даже единственного сына там зачал: молодая жена приходила к нему в чулан «в гости» из-за ширмы в комнате, где жила вдвоем с золовкой… Васиных родителей сослали в Среднюю Азию как вредный элемент, один брат погиб на Финской, другой – на Отечественной, сестра вышла замуж перед войной и съехала, жена умерла в блокаду, но сына удалось сохранить: родившись в двадцать восьмом, он не успел угодить на фронт, был удачно эвакуирован из города до начала осады и, вернувшись, создал собственную семью, а потом переехал с супругой на Правый берег, оставив в квартире уже своего сына с женой и маленьким Саввой… Словом, семейная жизнь почти всегда текла рядом с прадедушкой Василием, жившим в комнате, которой как бы не было, то есть в своего рода параллельном мире; он вмешивался в текущие события лишь по мере надобности, ревниво блюдя тот крошечный кусочек земного пространства, который сознательно отвоевал себе в страшные годы, когда земля уходила из-под ног. Там он тихонько делал свои блестящие инженерные изобретения, вычерчивая их под хрестоматийной зеленой лампой, молился перед двумя небольшими иконами в латунных окладах и любовался маленькой коллекцией красивых, до времени бесполезных предметов, спасенных тогда же, в самом начале, от завистливых буркал многоликого хама. В святилище допускались немногие избранники, сами того по-доброму желавшие: обожаемая жена, жалеемая невестка по внуку и правнук, при виде которого сердце старого Барша банально таяло и которому одному позволялось брать в руки дедулины сокровища.
В сущности, это были просто безделушки – с дюжину или чуть больше. Но таких по-настоящему волшебных штуковин детсадовец Савва уже нигде, кроме как у прадедушки, увидеть не мог: все, что продавалось в магазинах, казалось настолько скучным и убогим, что нападала тоска. Нет, встречались, бывало, в магазинах посуды неубедительно раскрашенные фигурки, непонятно из чего сделанные, – но в какое сравнение они могли идти с совершенно живой, только миниатюрной, серебряной крыской, таившей особый, будоражащий огонек в злых изумрудных глазах? Или с эмалевым букетиком фиалок, алмазно сверкавшим микроскопическими капельками росы на так и дышащих свежестью лепестках? Или с бронзовой – и все-таки меховой! – гусеницей, отдыхающей на аметистовом чертополохе? Там была и половинка граната с сочными зернами, при взгляде на которые слюна набиралась во рту, и таинственный латунный скарабей с малахитовой спинкой, и облитый черным лаком веселый котенок с лукавым янтарным взглядом, гоняющий по ониксовой подставке скомканную бумажку из костяного фарфора… Надо всем этим Савва буквально не дышал – не из опасения повредить, а от высокого страха перед Прекрасным. И он ни разу не пытался попросить у прадедушки какую-нибудь фигурку в подарок – и опять не потому, что боялся отказа, который, может, и не последовал бы, а от четкого осознания своей недостойности: так грешник и мечтать не смеет о рае…
Когда прадедушка умер, Савве как раз исполнилось тринадцать лет, и о кончине девяностолетнего старца искренне и сильно горевал только он, подросток. Кремация состоялась возмутительно быстро и по-деловому, словно родственники сами его убили и теперь торопились избавиться от тела; дедушка-сын – стоял с отсутствующим видом, мама была чуть-чуть печальна – но и только, Саввин папа, которого юноша ждал с некоторым внутренним смущением, не приехал вовсе… Зато вечером в их притихшей квартире, возвестив о себе длинным верещанием дверного звонка, явилась дедушкина жена – почти незнакомая Савве бабушка. Собственно, до того момента он представлял себе бабушек совершенно иначе. Во всяком случае, не в виде стройных, нарядных и злых, как черти, женщин в дымчатых очках и со стрижкой «каскад», точь-в-точь такой, как носили в том году его одноклассницы. Влетев в прихожую с огромной спортивной сумкой в руках, она и не подумала поздороваться с кем-то или снять сапоги на шпильке – а сразу, остро стуча каблуками, рванулась в дедулино опустелое убежище. К маме, пытавшейся мирно ее образумить, бывшая свекровь обернулась со зверским лицом и прошипела: «Ты… Только попробуй мне тут… Только вякни… Небо с овчинку покажется! Тебя и так мой придурок-сын озолотил… Потаскуху из барака взял и квартиру в центре Питера подарил, кретин… Но что от деда осталось – уж точно наше, потому что он моему мужу отец родной. Отойди в сторону и не путайся под ногами! Тут и Фаберже, чего доброго, может оказаться – не дарить же шалаве с ее отродьем…» Мама молча отступила, опустив голову.
Прижавшись друг к другу в дверях кладовой, они с Саввой смотрели, как сорванные из угла иконы летят в разинутую пасть сумки, а альбомы, бегло пролистнутые, – на пол; как с этажерки и из ящиков выдираются редкие старые книги, как небрежно пакуются в коробку с ватой одна за другой хрупкие безделушки со стола, как даже настольная лампа исчезает в черных клеенчатых недрах…
«За мебелью и картинами грузовик придет утром, – предупредила бабушка перед уходом. – Так что свое барахло заранее убери. Иначе на помойку отправлю». Но тут она жестоко просчиталась, потому что ночью мама тихо кому-то звонила, давясь слезами в трубку, и в результате грузовик с бабушкой и рабочими встретил грозный майор милиции в форме. «Мой знакомый…» – стеснительно представила его мама сыну, и тот простодушно обрадовался заступничеству, лишь спустя годы осознав, что бравый милиционер был, скорей всего, маминым любовником: ей ведь исполнилось тогда всего тридцать два, и неброская северная красота ее как раз стояла в последнем летнем расцвете…
Мебель прошлого века осталась на своих местах, пейзажи в бронзовых рамах не покинули стен, испуганная бабушка, бессильно сверкая очками, исчезла навеки – но с ней вместе пропали и прекрасные старинные вещицы, спасенные когда-то дедулей, а правнуком упущенные… Горю Саввы не было предела. Целый год он трудился ночами, кропотливо воссоздавая коллекцию по памяти из пластилина, раскрашивал, лакировал, расставлял по местам – и так постепенно избывал тоску по родному человеку, словно создавая ему настоящий, а не могильный памятник.
Тогда же он окончательно определился и с будущей профессией, сразу после восьмого класса ловко поступив в знаменитый Серовник[26 - Санкт-Петербургское художественное училище имени Н. К. Рериха, до 1992 года – Ленинградское художественное училище (ЛХУ) имени В. А. Серова.] на скульптурное отделение и впоследствии став оригинальным и востребованным медальером. Но всю взрослую жизнь Савва Барш не мог забыть утраченную фамильную коллекцию и упорно собирал свою: отмечая, как праздники, особенные, только ему одному известные вехи жизни (удачная, нерядовая медаль; победа над глупой несчастной любовью; первая в жизни человеческая беседа со взрослым сыном; истинно красивая женщина – такая, что не забудешь, одарившая мимолетной улыбкой…). Желая дополнительно увековечить память об одном из таких тайных, но грандиозных событий, он позволял себе пойти в антикварный магазин и выбрать, не глядя на цену, ладно легшую на? душу вещицу. Очень редко и всегда неожиданно, как особый знак свыше, являлась драгоценная награда: точно такая же вещь, какую он помнил под лампой у прадедушки Васи, вдруг приходила в руки сама, заставляя сердце болеть от счастья, и тогда он робко надеялся, что та самая реликвия просто взяла и вернулась в законный дом…
Как отличник учебы Савва оказался после училища на завидной должности в монетном дворе, где очень быстро полез на стенку – прикованный к конвейеру и абсолютно обескрыленный, обреченный на вечную отливку форм по чужим эскизам. Но, к его молодому счастью, Россия преподнесла ему на совершеннолетие очередную народную революцию – и вскоре вокруг взыграла такая буря общественного и личного тщеславия, что стало возможным почти сытно жить частными заказами. Постепенно множились знакомства среди бурливших тем или иным творчеством индивидуумов, мечтавших увековечить себя в бронзе пока хотя бы на личной медали, новые политики всех мастей, щеголяя друг перед другом, случалось, заказывали сразу сотню, платя твердой валютой… Савва красиво засветился на нескольких художественных выставках, его начали узнавать, хвалить, рекомендовать…
Дело пошло. Глубокий индивидуалист, как и прадед, он, тем не менее, скоро научился не ссориться с социумом явно – ибо негоже кусать кормящую руку, – но сумел обрести душевную гармонию, работая в слегка переоборудованном под новые требования жизни чулане прадедушки Васи – наедине с драгоценными воспоминаниями и упорно хранимыми, обещающими со временем превратиться в изящные окаменелости, пластилиновыми копиями утраченных сокровищ. В конце концов, то, чем он теперь профессионально занимался, не так уж сильно и отличалось от того отчаянного, то и дело прерывавшегося тайными слезами, годичного труда, результатом которого они явились.
А ночами, откинувшись в дедулином удобном рабочем кресле, ничуть почти за век не расшатавшемся, он с трепетом отдаленного узнавания читал отвергнутое когда-то бабушкой и брошенное ею на пол вместе с фотоальбомами растрепанное Евангелие.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: