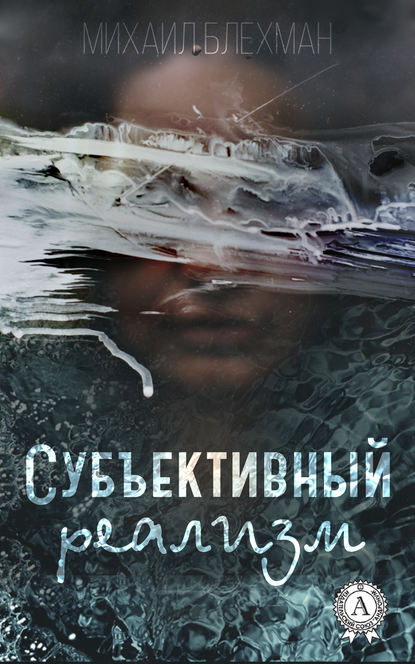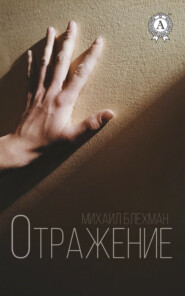По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Субъективный реализм
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
По телевизору объявили о последних известиях, но, как всегда, принялись показывать так много хорошо забытого старого, что мы, формально не сговариваясь, заметили:
– Надеюсь, что эти новости всё же не последние.
Дождь убрался восвояси так же внезапно, как когда-то разразился в моём «Солярисе».
– Это твоё пристрастие мне непонятно.
Я беспомощно рассмеялся – или неслышно вздохнул. Не помню, да и не важно.
– Конечно, – продолжала она, – ты напишешь об этом во всех подробностях, с массой намёков, повторов и второстепенных деталей. Кто это будет читать?
Он прохладно кивнул, словно обдавая прошедшим дождём:
– Если он уберёт все детали и повторы, читать тоже не будут. Разгадывать намёки – самое неблагодарное из занятий, а не разгадывать их – самое тривиальное.
От него вечно ожидаешь чего-то неожиданного.
Он громко вздохнул – или властно рассмеялся. Не помню, да и не важно.
Река по извечной инерции обивала пороги, порываясь куда-то, вряд ли зная, куда. Так было предопределено, вот она и старалась послушно, притворяясь непослушной и непокорной.
Мы не переставали разговаривать, ведь для того, чтобы наговориться, нужно не время, а отсутствие слов.
А время… Куда ему торопиться? Ему вряд ли есть до нас дело, да и не может оно, время, взять и истечь. И не может закончиться, в отличие от слов…
Впрочем, слова, к счастью, всё ещё есть.
– Сегодня, смотри, озеро – совершенно свинцовое.
– Когда ты в последний раз видел свинец? – она пожала плечами.
Я промолчал, тем более что метафора на сей раз была и вправду не из лучших.
А вокруг меня их – метафор – было бесчисленно много, на любой вкус. И само озеро казалось мне большой – огромной – метафорой.
Или метафорической метаморфозой.
Он не согласился:
– Оно вполне естественное и неизменное, в нём нет ни капли метафоричности или метаморфозности.
– Но разве неестественная метафора – это метафора? – возразил я. – Она, в лучшем случае, – неудачное сравнение, неуклюжее, как скрип уключин и вёсел в неумелых руках.
– А в худшем? – солнечно улыбнулся он нам обоим.
Я снова промолчал. Не замолчал, разумеется, – мне это не под силу. А промолчать – вовсе не значит замолчать. Говорить молча иногда приятнее, чем молчать вслух. Собственно говоря, всегда приятнее – мне во всяком случае.
– Тебя не понимают именно потому, что ты – говоришь, – заметила она, подтверждая мои размышления.
– Или пишешь, – отозвался он беспечной анафорой, всё же, кажется, не соглашаясь с непониманием.
Надеюсь, что – не соглашаясь.
Потому что он дал ей в руки старый, потёртый кувшин и помог зачерпнуть им немного воды из бескрайнего озера. Я подставил руки под серебристый поток. Метафоры незло и забавно звякали одна о другую, словно монетки или хрустальные рюмочки, не царапаясь, не разбиваясь, и, кажется, не заканчиваясь.
Кажется, не заканчиваясь…
Всё же нужно будет побывать там, – постарался я дать слово себе и ей. – Ведь многие из этих слов – оттуда.
– Кувшин, кстати, тоже, – добавил он. – Даже если не назвать его как следует – амфорой.
Невидимые пальцы, ранним утром затуманившие всё вокруг, наконец-то подняли туманный занвес, и солнце вспыхнуло, словно свет в театральном зале после окончания нескончаемой премьеры.
Мы пошли по старой улице, на которой трамваям было бы тесно, не говоря уже о троллейбусах.
Он незаметно насупился:
– Всё никак не забудете о троллейбусах с падающими штангами и трамваях, оглушительно зякающих по ночам? Всё не остановите свою заезженную, всю уже чёрную пластинку?
Она пожала плечами:
– О штангах не помню. А ночью, если и не спалось, то совсем не из-за трамваев.
– И пластинка – хоть и чёрная, совсем не заезженная, – поддержал я не просто её, но и нас.
Молчаливая старинная улица, которой было о чём помолчать, уводила от всё никак не забываемых трамваев и вела куда-то, что пока не имело для нас названия. Да и её самоё, эту скрытную улицу, нам только предстояло назвать. Разумеется, название у нашей новой, хотя и такой, оказывается, старой, улицы было, но его дали не мы, а ведь до чего же неуютно на улице, которую назвали, не посоветовавшись с тобой…
– Улица Старой Святой? – неслышно предложил он.
Я подумал, пригляделся к улице, неохотно превращаюшейся в нашу, и возразил:
– Лучше – Старинной. Думаю, святая была молодой и красивой.
– Для тебя все святые – красавицы, – немного недовольно рассмеялась она. – Хорошо, что не наоборот.
Я обнял её и тоже рассмеялся.
– Правильно, – сказал он. – Улица Старинной Святой звучит загадочнее и поэтому лучше. А что касается тесноты, то вы же, надеюсь, не в обиде?
Если улица – своя, то на неё не обижаешься. А чтобы сделать её своей – нужно дать ей имя. Это непросто, как непросто всё новое до тех пор, пока не станет старым. Иногда не становится, к сожалению. Она вздохнула, на этот раз соглашаясь. Впрочем, скорее всё же я по-прежнему согласился с нею.
Она невесело покачала головой:
– Сначала обещанная сказка должна сбыться, только после этого улица станет своей. Почему сказка не сбывается, если она обещана?
– Сказка сбывается только на своей улице, – неуклюже попытался я успокоить её. – На чужой сказка не сбудется, тем более обещанная. Знаю я их, эти обещанные сказки.
Она смирилась, но не успокоилась. Я это чувствовал и старался отвлечь её, хотя с определённого возраста никого отвлечь уже не удаётся.
– Надеюсь, что эти новости всё же не последние.
Дождь убрался восвояси так же внезапно, как когда-то разразился в моём «Солярисе».
– Это твоё пристрастие мне непонятно.
Я беспомощно рассмеялся – или неслышно вздохнул. Не помню, да и не важно.
– Конечно, – продолжала она, – ты напишешь об этом во всех подробностях, с массой намёков, повторов и второстепенных деталей. Кто это будет читать?
Он прохладно кивнул, словно обдавая прошедшим дождём:
– Если он уберёт все детали и повторы, читать тоже не будут. Разгадывать намёки – самое неблагодарное из занятий, а не разгадывать их – самое тривиальное.
От него вечно ожидаешь чего-то неожиданного.
Он громко вздохнул – или властно рассмеялся. Не помню, да и не важно.
Река по извечной инерции обивала пороги, порываясь куда-то, вряд ли зная, куда. Так было предопределено, вот она и старалась послушно, притворяясь непослушной и непокорной.
Мы не переставали разговаривать, ведь для того, чтобы наговориться, нужно не время, а отсутствие слов.
А время… Куда ему торопиться? Ему вряд ли есть до нас дело, да и не может оно, время, взять и истечь. И не может закончиться, в отличие от слов…
Впрочем, слова, к счастью, всё ещё есть.
– Сегодня, смотри, озеро – совершенно свинцовое.
– Когда ты в последний раз видел свинец? – она пожала плечами.
Я промолчал, тем более что метафора на сей раз была и вправду не из лучших.
А вокруг меня их – метафор – было бесчисленно много, на любой вкус. И само озеро казалось мне большой – огромной – метафорой.
Или метафорической метаморфозой.
Он не согласился:
– Оно вполне естественное и неизменное, в нём нет ни капли метафоричности или метаморфозности.
– Но разве неестественная метафора – это метафора? – возразил я. – Она, в лучшем случае, – неудачное сравнение, неуклюжее, как скрип уключин и вёсел в неумелых руках.
– А в худшем? – солнечно улыбнулся он нам обоим.
Я снова промолчал. Не замолчал, разумеется, – мне это не под силу. А промолчать – вовсе не значит замолчать. Говорить молча иногда приятнее, чем молчать вслух. Собственно говоря, всегда приятнее – мне во всяком случае.
– Тебя не понимают именно потому, что ты – говоришь, – заметила она, подтверждая мои размышления.
– Или пишешь, – отозвался он беспечной анафорой, всё же, кажется, не соглашаясь с непониманием.
Надеюсь, что – не соглашаясь.
Потому что он дал ей в руки старый, потёртый кувшин и помог зачерпнуть им немного воды из бескрайнего озера. Я подставил руки под серебристый поток. Метафоры незло и забавно звякали одна о другую, словно монетки или хрустальные рюмочки, не царапаясь, не разбиваясь, и, кажется, не заканчиваясь.
Кажется, не заканчиваясь…
Всё же нужно будет побывать там, – постарался я дать слово себе и ей. – Ведь многие из этих слов – оттуда.
– Кувшин, кстати, тоже, – добавил он. – Даже если не назвать его как следует – амфорой.
Невидимые пальцы, ранним утром затуманившие всё вокруг, наконец-то подняли туманный занвес, и солнце вспыхнуло, словно свет в театральном зале после окончания нескончаемой премьеры.
Мы пошли по старой улице, на которой трамваям было бы тесно, не говоря уже о троллейбусах.
Он незаметно насупился:
– Всё никак не забудете о троллейбусах с падающими штангами и трамваях, оглушительно зякающих по ночам? Всё не остановите свою заезженную, всю уже чёрную пластинку?
Она пожала плечами:
– О штангах не помню. А ночью, если и не спалось, то совсем не из-за трамваев.
– И пластинка – хоть и чёрная, совсем не заезженная, – поддержал я не просто её, но и нас.
Молчаливая старинная улица, которой было о чём помолчать, уводила от всё никак не забываемых трамваев и вела куда-то, что пока не имело для нас названия. Да и её самоё, эту скрытную улицу, нам только предстояло назвать. Разумеется, название у нашей новой, хотя и такой, оказывается, старой, улицы было, но его дали не мы, а ведь до чего же неуютно на улице, которую назвали, не посоветовавшись с тобой…
– Улица Старой Святой? – неслышно предложил он.
Я подумал, пригляделся к улице, неохотно превращаюшейся в нашу, и возразил:
– Лучше – Старинной. Думаю, святая была молодой и красивой.
– Для тебя все святые – красавицы, – немного недовольно рассмеялась она. – Хорошо, что не наоборот.
Я обнял её и тоже рассмеялся.
– Правильно, – сказал он. – Улица Старинной Святой звучит загадочнее и поэтому лучше. А что касается тесноты, то вы же, надеюсь, не в обиде?
Если улица – своя, то на неё не обижаешься. А чтобы сделать её своей – нужно дать ей имя. Это непросто, как непросто всё новое до тех пор, пока не станет старым. Иногда не становится, к сожалению. Она вздохнула, на этот раз соглашаясь. Впрочем, скорее всё же я по-прежнему согласился с нею.
Она невесело покачала головой:
– Сначала обещанная сказка должна сбыться, только после этого улица станет своей. Почему сказка не сбывается, если она обещана?
– Сказка сбывается только на своей улице, – неуклюже попытался я успокоить её. – На чужой сказка не сбудется, тем более обещанная. Знаю я их, эти обещанные сказки.
Она смирилась, но не успокоилась. Я это чувствовал и старался отвлечь её, хотя с определённого возраста никого отвлечь уже не удаётся.