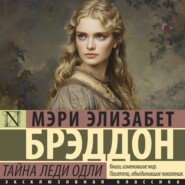По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Тайна леди Одли
Автор
Серия
Год написания книги
1862
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я покину тебя, дорогой, – сказала она. – если ты хочешь спать, это очень хорошо. Если захочешь почитать, книги и газеты рядом. Я оставлю дверь между нашими комнатами открытой и услышу, если ты позовешь меня.
Леди Одли прошла через свою гардеробную в будуар, где сидела со своим супругом до обеда.
В этой комнате можно было заметить множество признаков того, что она принадлежит изящной женщине. Рояль госпожи был открыт, на нем разбросаны ноты, роскошно переплетенные собрания сцен и фантазий. У окна стоял мольберт – свидетель таланта госпожи с акварельным наброском Корта и садов. Сказочной красоты вышивки из кружев и муслина, шелка всех цветов радуги и искусно окрашенная шерсть были разбросаны в беспорядке в роскошном покое; зеркала, изобретательно расставленные в противоположных углах мастером-драпировщиком, многократно отражали изображение госпожи – самый прекрасный объект в этой очаровательной комнате.
Посреди всего этого света ламп, позолоты, красок, богатства и красоты, в задумчивости сидела Люси Одли на низенькой скамеечке у камина.
Если бы мистер Холман Гант мог заглянуть в этот изысканный будуар, думаю, что в его воображении запечатлелась бы картина, которая могла бы быть воспроизведена на поясном портрете епископа для прославления братства прерафаэлитов. Госпожа сидела полуоткинувшись, опершись локтем о колено и положив точеный подбородок на ладонь; глубокие складки платья ниспадали длинными волнами с ее совершенной фигуры; алые отсветы огня в камине обволакивали ее мягкой дымкой, сквозь которую отсвечивали золотом ее волосы. Она казалась еще прекраснее от окружающего ее великолепия. Чашки из золота и слоновой кости работы Бенвенуто Челлини; застекленные шкафчики стиля «буль» с монограммой Марии-Антуанетты; повсюду эмблемы из розовых бутонов и союзов любящих, птичек и бабочек, купидонов и пастушек, богинь, придворных льстецов, крестьян и молочниц; статуэтки из паросского мрамора и светло-коричневого фарфора; позолоченные корзиночки с оранжерейными цветами; индийские шкатулки филигранной работы; хрупкие фарфоровые чашки цвета бирюзы, украшенные миниатюрами с изображениями Людовика XIV, Луизы де Вальери и Жанны-Мари Дюбарри; картины и позолоченные зеркала, блестящий атлас и прозрачные кружева – все, что можно купить за золото, было собрано здесь для украшения этой комнаты, в которой сидела сейчас госпожа, слушая, как пронзительно воет мартовский ветер, в окно стучат листья плюща, и глядя в пылающую бездну горящих углей.
Я бы стала проповедовать старое давно известное учение и надоедливо толковать об избитой морали, если бы воспользовалась случаем и выступила против искусства и красоты, поскольку госпожа была более несчастна в своих изящных апартаментах, чем полуголодная швея на своем чердаке. Она была несчастна из-за раны, слишком глубокой, чтобы ее можно было излечить такими лекарствами, как богатство и роскошь; но ее несчастье было неестественно, и я не вижу возможности воспользоваться фактом ее горя как аргументом в пользу бедности и лишений. Резные работы Бенвенуто Челлини и севрский фарфор не могли дать ей счастье, потому что уже не волновали ее. Она перестала быть наивной, и чистое удовольствие, получаемое нами от искусства и красоты, стало ей недоступно. Шесть или семь лет назад она была бы безмерно счастлива обладать этим маленьким дворцом Аладдина, но она покинула ряды беззаботных созданий, ищущих удовольствия, и забрела далеко в глубь пустынного лабиринта греха и вероломства, ужаса и преступления; и все сокровища, собранные для нее, давали ей лишь одну радость – швырнуть их на пол и топтать, уничтожая в жестоком отчаянии.
Но было кое-что, что вселяло в нее дикую радость, ужасное веселье. Если бы Роберт Одли, ее безжалостный враг и неумолимый гонитель, пал замертво в соседней комнате, она бы ликовала на его могиле.
Какие радости оставались у Лукреции Борджиа и Екатерины Медичи, когда страшная грань между невинностью и грехом была найдена, и погибшие создания одиноко стояли с внешней стороны? Лишь ужасные радости мести, вероломные восторги остались этим несчастным женщинам. С какой презрительной горечью, должно быть, взирали они на легкомысленное тщеславие, мелкие хитрости, жалкие грехи обычных преступников. Возможно, они страшно гордились чудовищностью своих преступлений, этой «божественностью ада», делавшей их величайшими из всех грешников.
Госпожа, сидя у огня в пустой комнате, устремив свои большие ясные голубые глаза в зияющую пропасть пламени горящих углей, возможно, думала о вещах, далеких от ужасной безмолвной борьбы, в которую оказалась вовлечена. Быть может, она размышляла о давно прошедших годах детской невинности, ребячьих шалостей и эгоизма или легкомысленных женских прегрешений, которые были так легки для ее совести. Возможно, в этих обращенных в прошлое мыслях она увидела то давнее время, когда впервые посмотрела в зеркало и поняла, что она красива: то роковое время, когда она впервые начала смотреть на свою красоту, как на Божий дар, безграничное обладание которым было противовесом всем девичьим недостаткам, всем юным прегрешениям. Вспомнила ли она тот день, в который этот сказочный природный дар красоты впервые научил ее быть эгоистичной и жестокой, безразличной к радостям и горю других, бессердечной и капризной, жаждущей восхищения, придирчивой и властной, обладающей тем мелочным женским тиранством, что хуже любого деспотизма? Проследила ли она каждое прегрешение своей жизни до его подлинного источника? И обнаружила ли она тот отравленный родник собственной преувеличенной оценки своего хорошенького личика? Если бы ее мысли забрели так далеко назад по течению жизни, она должна была раскаяться в горечи и отчаянии того первого дня, когда страсти стали ее властелинами, и три демона – Тщеславие, Эгоизм и Честолюбие соединили руки и произнесли: «Эта женщина – наша рабыня; посмотрим, кем она станет под нашим руководством».
Какими маленькими казались теперь эти первые ошибки молодости, когда госпожа возвращалась мыслями в свое прошлое, сидя в одиночестве у камина! Какое мелкое тщеславие, незначительные жестокости! Торжество над школьной подругой, флирт с ее ухажером, утверждение своего права, данного ей от Бога в виде голубых глаз и отливающих золотом волос. Но как незаметно эта узкая тропинка превратилась в широкую дорогу греха и насколько быстрее стал ее шаг на этой, теперь хорошо знакомой, дорожке!
Госпожа запустила пальцы в свои распущенные локоны цвета января и рванула их, как будто хотела выдернуть с корнем. Но даже в это мгновение безмолвного отчаяния упорное владычество красоты не покидало ее, и она отпустила свои бедные спутанные волосы, которые рассыпались, образуя ореол вокруг ее головы, мерцающей в свете камина.
«Я не была злой в юности, – размышляла она, мрачно глядя на огонь. – Я была лишь бездумной. Я не причиняла вреда – по крайней мере, не преднамеренно. Интересно, была я когда-нибудь по-настоящему испорченной? – задумалась она. – Мои самые большие грехи были результатом необузданных порывов, а не продуманных интриг. Я не такая, как те женщины, о которых читала- они лежали ночи напролет в темноте и безмолвии, замышляя вероломные дела, детально готовя преступления. Интересно, страдали ли они – эти женщины – страдали они когда-нибудь, как…»
Ее мысли запутались. Неожиданно она гордо выпрямилась и в глазах ее появился блеск, который не был отражением огня в камине.
– Вы сумасшедший, мистер Роберт Одли, – произнесла она, – вы сумасшедший, и все ваши измышления – фантазии безумного человека. Я знаю, что такое безумие. Я знаю его приметы и признаки и поэтому говорю: вы сумасшедший.
Она приложила руку ко лбу, как будто ее мысли смущали и озадачивали ее, и она никак не могла спокойно на них сосредоточиться.
– Осмелюсь ли я бросить ему вызов? – прошептала она. – Осмелюсь ли? Смею ли я? Остановится ли он теперь, когда зашел так далеко? Остановится ли он из страха передо мной? Побоится ли он меня, если мысль о том, какие страдания должен будет пережить его дядя, не остановила его? Остановит ли его что-нибудь – кроме смерти?
Она промолвила последние два слова зловещим шепотом, наклонив вперед голову, с широко раскрытыми глазами, с губами, раскрытыми для произнесения этого последнего слова «смерть», и устремила невидящий взор на огонь.
– Я не могу замышлять всякие ужасы, – прошептала она вскоре. – У меня не хватает ума на это, я недостаточно испорчена и смела. Если бы я встретила Роберта Одли в тех пустых садах так же, как я…
Осторожный стук в дверь прервал ее мысль. Она вскочила, встревоженная этим звуком, и бросилась в низкое кресло у огня. Люси отбросила голову на подушки и взяла книгу со столика.
Незначительное само по себе, это движение говорило совершенно ясно о нескончаемых страхах, о фатальной необходимости все время таиться и о важности не забывать, несмотря на молчаливые страдания, о внешнем впечатлении. Оно говорило яснее, чем что-либо еще, о том, какой законченной актрисой заставила ее стать жизнь.
Тихий стук в дверь будуара повторился.
– Войдите, – воскликнула Люси своим самым приятным голосом.
Дверь отворилась с почтительной бесшумностью, свойственной хорошо вышколенной прислуге, и молодая женщина, очень просто одетая и, казалось, несущая мартовский холод в складках своего платья, переступила порог и остановилась у двери в ожидании позволения войти внутрь убежища госпожи.
Это была Феба Маркс, бледнолицая жена хозяина таверны в Маунт-Стэннинге.
– Прошу прощения, госпожа за беспокойство, – сказала она, – но я думала, что могу решиться зайти к вам сразу, не спрашивая разрешения.
– Да-да, конечно, Феба. Сними шляпку, ты, должно быть, замерзла, проходи и садись сюда.
Леди Одли указала на низкую оттоманку, на которой сидела несколько минут назад. Служанка госпожи часто сидела на ней, слушая болтовню своей хозяйки, в те прежние дни, когда была компаньонкой госпожи и ее доверенным лицом.
– Садись сюда, Феба, – повторила леди Одли, – садись и поговори со мной. Я так рада, что ты пришла сегодня. Мне было ужасно одиноко.
Она вздрогнула и оглядела свои роскошные покои так, как будто севрский фарфор и бирюза, мебель «буль» и золоченая бронза были ветхими украшениями какого-нибудь разрушенного замка. Ее невеселые мысли бросали тень на каждый предмет вокруг нее, и скрытые страдания в ее груди окрашивали их в мрачные тона. Она говорила чистую правду, когда сказала, что рада приходу своей служанки. Ее легкомысленная натура спасалась в это хилое укрытие в часы страха и страданий. Существовала какая-то симпатия между ней и этой девушкой, похожей на нее и внутренне и внешне – такой же, как она эгоистичной, холодной и жестокой, стремящейся к собственной выгоде, жадной до богатства, недовольной долей, которая ей выпала и уставшей от зависимости. Госпожа ненавидела Алисию за ее открытую, страстную, щедрую и смелую натуру; она ненавидела свою падчерицу и льнула к этой бледнолицей белобрысой девушке, которую считала не лучше и не хуже самой себя.
Феба Маркс повиновалась своей бывшей госпоже и сняла шляпку, прежде чем сесть на оттоманку у ног леди Одли. Мартовский ветер не растрепал ее гладких кос, ее аккуратное платье из плотной шерстяной материи тускло-коричневого цвета и льняной воротничок были так же опрятны, как будто она только что закончила свой туалет.
– Я надеюсь, сэру Майклу лучше? – спросила она.
– Да, Феба, гораздо лучше. Он спит. Ты можешь закрыть эту дверь, – добавила Люси Одли, движением головы указывая на дверь, соединяющую их комнаты, которая была оставлена открытой.
Миссис Маркс покорно повиновалась и возвратилась на свое место.
– Я так несчастна, Феба, – раздраженно сказала госпожа, – ужасно несчастна.
– Из-за тайны? – шепотом спросила Феба.
Госпожа не обратила внимания на ее вопрос. Она снова начала говорить жалующимся тоном. Она была так рада пожаловаться хотя бы своей служанке. Люси так долго думала о своих страхах, так долго тайно страдала, что для нее было невыразимым облегчением вслух оплакивать свою судьбу.
– Меня жестоко преследуют и тревожат, Феба Маркс, – промолвила она. – Меня преследует и мучит человек, которому я никогда не причиняла вреда и никогда не желала зла. Мне не дает покоя этот безжалостный мучитель, и я…
Она остановилась, пристально глядя на огонь. Снова запутавшись в лабиринте своих мыслей, сновавших в мрачном хаосе смущения, она никак не могла прийти к конкретному решению.
Феба Маркс наблюдала за лицом госпожи, глядя снизу вверх на бывшую хозяйку своими бледными, беспокойными глазами, и отводила их в сторону, лишь встретившись с глазами Люси.
– Думаю, что знаю, кого вы имеете в виду, госпожа, – сказала жена хозяина таверны, немного помолчав. – По-моему, я знаю, кто так жесток с вами.
– Конечно, – с горечью ответила госпожа, – это уже не только моя тайна. Ты, без сомнения, знаешь все.
– Этот человек – джентльмен, не так ли, госпожа?
– Да.
– Джентльмен, приезжавший в гостиницу «Касл» два месяца назад, когда я предупредила вас…
– Да, да, – в нетерпении ответила госпожа.
– Я так и думала. Тот же господин и сегодня у нас, госпожа.
Леди Одли вскочила, но затем вновь упала в кресло с усталым недовольным вздохом. Какую войну могло вести такое слабое создание со своей судьбой? Что она могла сделать, кроме как перевести дух, словно загнанный заяц, пока не найдет дорогу обратно, к началу этой жестокой гонки, чтобы быть растоптанной своими преследователями?
– В гостинице «Касл»? – вскричала она. – Я могла бы и сама догадаться. Он пошел туда, чтобы выудить мои секреты у твоего мужа. Дурак! – воскликнула она и вдруг повернулась к Фебе в ярости. – Ты хочешь меня погубить! Зачем ты оставила их вместе?
Миссис Маркс с мольбой сжала руки.
– Я пришла не по своей воле, госпожа, – взмолилась она. – Никто так не хотел уходить из дома, как я сегодня вечером. Меня послали сюда.
Леди Одли прошла через свою гардеробную в будуар, где сидела со своим супругом до обеда.
В этой комнате можно было заметить множество признаков того, что она принадлежит изящной женщине. Рояль госпожи был открыт, на нем разбросаны ноты, роскошно переплетенные собрания сцен и фантазий. У окна стоял мольберт – свидетель таланта госпожи с акварельным наброском Корта и садов. Сказочной красоты вышивки из кружев и муслина, шелка всех цветов радуги и искусно окрашенная шерсть были разбросаны в беспорядке в роскошном покое; зеркала, изобретательно расставленные в противоположных углах мастером-драпировщиком, многократно отражали изображение госпожи – самый прекрасный объект в этой очаровательной комнате.
Посреди всего этого света ламп, позолоты, красок, богатства и красоты, в задумчивости сидела Люси Одли на низенькой скамеечке у камина.
Если бы мистер Холман Гант мог заглянуть в этот изысканный будуар, думаю, что в его воображении запечатлелась бы картина, которая могла бы быть воспроизведена на поясном портрете епископа для прославления братства прерафаэлитов. Госпожа сидела полуоткинувшись, опершись локтем о колено и положив точеный подбородок на ладонь; глубокие складки платья ниспадали длинными волнами с ее совершенной фигуры; алые отсветы огня в камине обволакивали ее мягкой дымкой, сквозь которую отсвечивали золотом ее волосы. Она казалась еще прекраснее от окружающего ее великолепия. Чашки из золота и слоновой кости работы Бенвенуто Челлини; застекленные шкафчики стиля «буль» с монограммой Марии-Антуанетты; повсюду эмблемы из розовых бутонов и союзов любящих, птичек и бабочек, купидонов и пастушек, богинь, придворных льстецов, крестьян и молочниц; статуэтки из паросского мрамора и светло-коричневого фарфора; позолоченные корзиночки с оранжерейными цветами; индийские шкатулки филигранной работы; хрупкие фарфоровые чашки цвета бирюзы, украшенные миниатюрами с изображениями Людовика XIV, Луизы де Вальери и Жанны-Мари Дюбарри; картины и позолоченные зеркала, блестящий атлас и прозрачные кружева – все, что можно купить за золото, было собрано здесь для украшения этой комнаты, в которой сидела сейчас госпожа, слушая, как пронзительно воет мартовский ветер, в окно стучат листья плюща, и глядя в пылающую бездну горящих углей.
Я бы стала проповедовать старое давно известное учение и надоедливо толковать об избитой морали, если бы воспользовалась случаем и выступила против искусства и красоты, поскольку госпожа была более несчастна в своих изящных апартаментах, чем полуголодная швея на своем чердаке. Она была несчастна из-за раны, слишком глубокой, чтобы ее можно было излечить такими лекарствами, как богатство и роскошь; но ее несчастье было неестественно, и я не вижу возможности воспользоваться фактом ее горя как аргументом в пользу бедности и лишений. Резные работы Бенвенуто Челлини и севрский фарфор не могли дать ей счастье, потому что уже не волновали ее. Она перестала быть наивной, и чистое удовольствие, получаемое нами от искусства и красоты, стало ей недоступно. Шесть или семь лет назад она была бы безмерно счастлива обладать этим маленьким дворцом Аладдина, но она покинула ряды беззаботных созданий, ищущих удовольствия, и забрела далеко в глубь пустынного лабиринта греха и вероломства, ужаса и преступления; и все сокровища, собранные для нее, давали ей лишь одну радость – швырнуть их на пол и топтать, уничтожая в жестоком отчаянии.
Но было кое-что, что вселяло в нее дикую радость, ужасное веселье. Если бы Роберт Одли, ее безжалостный враг и неумолимый гонитель, пал замертво в соседней комнате, она бы ликовала на его могиле.
Какие радости оставались у Лукреции Борджиа и Екатерины Медичи, когда страшная грань между невинностью и грехом была найдена, и погибшие создания одиноко стояли с внешней стороны? Лишь ужасные радости мести, вероломные восторги остались этим несчастным женщинам. С какой презрительной горечью, должно быть, взирали они на легкомысленное тщеславие, мелкие хитрости, жалкие грехи обычных преступников. Возможно, они страшно гордились чудовищностью своих преступлений, этой «божественностью ада», делавшей их величайшими из всех грешников.
Госпожа, сидя у огня в пустой комнате, устремив свои большие ясные голубые глаза в зияющую пропасть пламени горящих углей, возможно, думала о вещах, далеких от ужасной безмолвной борьбы, в которую оказалась вовлечена. Быть может, она размышляла о давно прошедших годах детской невинности, ребячьих шалостей и эгоизма или легкомысленных женских прегрешений, которые были так легки для ее совести. Возможно, в этих обращенных в прошлое мыслях она увидела то давнее время, когда впервые посмотрела в зеркало и поняла, что она красива: то роковое время, когда она впервые начала смотреть на свою красоту, как на Божий дар, безграничное обладание которым было противовесом всем девичьим недостаткам, всем юным прегрешениям. Вспомнила ли она тот день, в который этот сказочный природный дар красоты впервые научил ее быть эгоистичной и жестокой, безразличной к радостям и горю других, бессердечной и капризной, жаждущей восхищения, придирчивой и властной, обладающей тем мелочным женским тиранством, что хуже любого деспотизма? Проследила ли она каждое прегрешение своей жизни до его подлинного источника? И обнаружила ли она тот отравленный родник собственной преувеличенной оценки своего хорошенького личика? Если бы ее мысли забрели так далеко назад по течению жизни, она должна была раскаяться в горечи и отчаянии того первого дня, когда страсти стали ее властелинами, и три демона – Тщеславие, Эгоизм и Честолюбие соединили руки и произнесли: «Эта женщина – наша рабыня; посмотрим, кем она станет под нашим руководством».
Какими маленькими казались теперь эти первые ошибки молодости, когда госпожа возвращалась мыслями в свое прошлое, сидя в одиночестве у камина! Какое мелкое тщеславие, незначительные жестокости! Торжество над школьной подругой, флирт с ее ухажером, утверждение своего права, данного ей от Бога в виде голубых глаз и отливающих золотом волос. Но как незаметно эта узкая тропинка превратилась в широкую дорогу греха и насколько быстрее стал ее шаг на этой, теперь хорошо знакомой, дорожке!
Госпожа запустила пальцы в свои распущенные локоны цвета января и рванула их, как будто хотела выдернуть с корнем. Но даже в это мгновение безмолвного отчаяния упорное владычество красоты не покидало ее, и она отпустила свои бедные спутанные волосы, которые рассыпались, образуя ореол вокруг ее головы, мерцающей в свете камина.
«Я не была злой в юности, – размышляла она, мрачно глядя на огонь. – Я была лишь бездумной. Я не причиняла вреда – по крайней мере, не преднамеренно. Интересно, была я когда-нибудь по-настоящему испорченной? – задумалась она. – Мои самые большие грехи были результатом необузданных порывов, а не продуманных интриг. Я не такая, как те женщины, о которых читала- они лежали ночи напролет в темноте и безмолвии, замышляя вероломные дела, детально готовя преступления. Интересно, страдали ли они – эти женщины – страдали они когда-нибудь, как…»
Ее мысли запутались. Неожиданно она гордо выпрямилась и в глазах ее появился блеск, который не был отражением огня в камине.
– Вы сумасшедший, мистер Роберт Одли, – произнесла она, – вы сумасшедший, и все ваши измышления – фантазии безумного человека. Я знаю, что такое безумие. Я знаю его приметы и признаки и поэтому говорю: вы сумасшедший.
Она приложила руку ко лбу, как будто ее мысли смущали и озадачивали ее, и она никак не могла спокойно на них сосредоточиться.
– Осмелюсь ли я бросить ему вызов? – прошептала она. – Осмелюсь ли? Смею ли я? Остановится ли он теперь, когда зашел так далеко? Остановится ли он из страха передо мной? Побоится ли он меня, если мысль о том, какие страдания должен будет пережить его дядя, не остановила его? Остановит ли его что-нибудь – кроме смерти?
Она промолвила последние два слова зловещим шепотом, наклонив вперед голову, с широко раскрытыми глазами, с губами, раскрытыми для произнесения этого последнего слова «смерть», и устремила невидящий взор на огонь.
– Я не могу замышлять всякие ужасы, – прошептала она вскоре. – У меня не хватает ума на это, я недостаточно испорчена и смела. Если бы я встретила Роберта Одли в тех пустых садах так же, как я…
Осторожный стук в дверь прервал ее мысль. Она вскочила, встревоженная этим звуком, и бросилась в низкое кресло у огня. Люси отбросила голову на подушки и взяла книгу со столика.
Незначительное само по себе, это движение говорило совершенно ясно о нескончаемых страхах, о фатальной необходимости все время таиться и о важности не забывать, несмотря на молчаливые страдания, о внешнем впечатлении. Оно говорило яснее, чем что-либо еще, о том, какой законченной актрисой заставила ее стать жизнь.
Тихий стук в дверь будуара повторился.
– Войдите, – воскликнула Люси своим самым приятным голосом.
Дверь отворилась с почтительной бесшумностью, свойственной хорошо вышколенной прислуге, и молодая женщина, очень просто одетая и, казалось, несущая мартовский холод в складках своего платья, переступила порог и остановилась у двери в ожидании позволения войти внутрь убежища госпожи.
Это была Феба Маркс, бледнолицая жена хозяина таверны в Маунт-Стэннинге.
– Прошу прощения, госпожа за беспокойство, – сказала она, – но я думала, что могу решиться зайти к вам сразу, не спрашивая разрешения.
– Да-да, конечно, Феба. Сними шляпку, ты, должно быть, замерзла, проходи и садись сюда.
Леди Одли указала на низкую оттоманку, на которой сидела несколько минут назад. Служанка госпожи часто сидела на ней, слушая болтовню своей хозяйки, в те прежние дни, когда была компаньонкой госпожи и ее доверенным лицом.
– Садись сюда, Феба, – повторила леди Одли, – садись и поговори со мной. Я так рада, что ты пришла сегодня. Мне было ужасно одиноко.
Она вздрогнула и оглядела свои роскошные покои так, как будто севрский фарфор и бирюза, мебель «буль» и золоченая бронза были ветхими украшениями какого-нибудь разрушенного замка. Ее невеселые мысли бросали тень на каждый предмет вокруг нее, и скрытые страдания в ее груди окрашивали их в мрачные тона. Она говорила чистую правду, когда сказала, что рада приходу своей служанки. Ее легкомысленная натура спасалась в это хилое укрытие в часы страха и страданий. Существовала какая-то симпатия между ней и этой девушкой, похожей на нее и внутренне и внешне – такой же, как она эгоистичной, холодной и жестокой, стремящейся к собственной выгоде, жадной до богатства, недовольной долей, которая ей выпала и уставшей от зависимости. Госпожа ненавидела Алисию за ее открытую, страстную, щедрую и смелую натуру; она ненавидела свою падчерицу и льнула к этой бледнолицей белобрысой девушке, которую считала не лучше и не хуже самой себя.
Феба Маркс повиновалась своей бывшей госпоже и сняла шляпку, прежде чем сесть на оттоманку у ног леди Одли. Мартовский ветер не растрепал ее гладких кос, ее аккуратное платье из плотной шерстяной материи тускло-коричневого цвета и льняной воротничок были так же опрятны, как будто она только что закончила свой туалет.
– Я надеюсь, сэру Майклу лучше? – спросила она.
– Да, Феба, гораздо лучше. Он спит. Ты можешь закрыть эту дверь, – добавила Люси Одли, движением головы указывая на дверь, соединяющую их комнаты, которая была оставлена открытой.
Миссис Маркс покорно повиновалась и возвратилась на свое место.
– Я так несчастна, Феба, – раздраженно сказала госпожа, – ужасно несчастна.
– Из-за тайны? – шепотом спросила Феба.
Госпожа не обратила внимания на ее вопрос. Она снова начала говорить жалующимся тоном. Она была так рада пожаловаться хотя бы своей служанке. Люси так долго думала о своих страхах, так долго тайно страдала, что для нее было невыразимым облегчением вслух оплакивать свою судьбу.
– Меня жестоко преследуют и тревожат, Феба Маркс, – промолвила она. – Меня преследует и мучит человек, которому я никогда не причиняла вреда и никогда не желала зла. Мне не дает покоя этот безжалостный мучитель, и я…
Она остановилась, пристально глядя на огонь. Снова запутавшись в лабиринте своих мыслей, сновавших в мрачном хаосе смущения, она никак не могла прийти к конкретному решению.
Феба Маркс наблюдала за лицом госпожи, глядя снизу вверх на бывшую хозяйку своими бледными, беспокойными глазами, и отводила их в сторону, лишь встретившись с глазами Люси.
– Думаю, что знаю, кого вы имеете в виду, госпожа, – сказала жена хозяина таверны, немного помолчав. – По-моему, я знаю, кто так жесток с вами.
– Конечно, – с горечью ответила госпожа, – это уже не только моя тайна. Ты, без сомнения, знаешь все.
– Этот человек – джентльмен, не так ли, госпожа?
– Да.
– Джентльмен, приезжавший в гостиницу «Касл» два месяца назад, когда я предупредила вас…
– Да, да, – в нетерпении ответила госпожа.
– Я так и думала. Тот же господин и сегодня у нас, госпожа.
Леди Одли вскочила, но затем вновь упала в кресло с усталым недовольным вздохом. Какую войну могло вести такое слабое создание со своей судьбой? Что она могла сделать, кроме как перевести дух, словно загнанный заяц, пока не найдет дорогу обратно, к началу этой жестокой гонки, чтобы быть растоптанной своими преследователями?
– В гостинице «Касл»? – вскричала она. – Я могла бы и сама догадаться. Он пошел туда, чтобы выудить мои секреты у твоего мужа. Дурак! – воскликнула она и вдруг повернулась к Фебе в ярости. – Ты хочешь меня погубить! Зачем ты оставила их вместе?
Миссис Маркс с мольбой сжала руки.
– Я пришла не по своей воле, госпожа, – взмолилась она. – Никто так не хотел уходить из дома, как я сегодня вечером. Меня послали сюда.