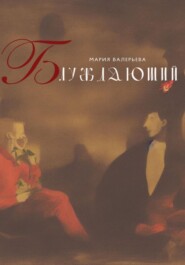По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Торговец отражений
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Хочешь послушать?
– Конечно.
Осборн покрутил в руках второй носок, с дыркой на большом пальце, даже просунул в нее палец, а потом обреченно вздохнул и надел. Говорил он тихо, не как обычно, словно пробираясь сквозь враждебные воспоминания и проигрывая в схватке с ними.
– Как-то раз, помню, мы поехали на фестиваль. Это было какое-то волшебное время. Мне лет шесть, лето, жара, по стране туда-сюда колесят водители, все ищут солнца. И весело как-то, легко. Ну, хотя, как может быть сложно в шесть лет… Я всегда валялся на заднем сидении. Не сидел, а лежал. Сидеть скучно. Помню, все окна открыты, горячий ветер бьет по лицу, пахнет дымом, дорожной пылью и цветами. И маминым попкорном: она его пачками ела. Родители сидели впереди и слушали музыку, Black Sabbath, дебютник, потом «Paranoid[20 - Альбомы британской рок-группы Black Sabbath. Дебютный «Black Sabbath» и второй «Paranoid».]». Ехать долго, мы два прослушали. Родители подпевали, мама даже изображала, как на гитаре играет. Хотя, знаешь, никогда даже не пыталась научиться. Она даже перья в волосы вплела, какие-то бубенчики, они звенели на ветру… Мама надела одну из своих широких кофт с кисточками, которые тогда часто носила, и сапоги. Отец был в очках от солнца, в шляпе и какой-то рубахе в огурцах, оранжевой такой, яркой. Я звал его апельсином, а он смеялся. Мы выглядели как хиппи из конца шестидесятых, ехавшие на Вудсток, только ехали мы на внедорожнике, который взяли в кредит, и в бардачке у отца валялись документы на сделки.
Осборн замолчал и улыбнулся. Что-то вдохновенное, похожее на искру, промелькнуло на его лице и – угасло.
– Я не очень обращал внимание сами на фестивали. Для меня они всегда были просто сборищем взрослых, которые собираются, чтобы потанцевать и покричать под песни других взрослых. Ну, шестилетка, что я мог понимать… Мы приехали, распаковались. Присели перекусить. Там так пахло всяким фаст-фудом, глаза слезились! И солнце еще слепило, грело, от жары дурно, даже подташнивало. Небо такое голубое, без единого облачка. И поле огромное, истоптанное, с проплешинами, а вдали сцена. И сотни машин, и тысячи людей вокруг. Они все приезжали и приезжали, как мухи слетались, потом, все разноцветные, носились туда-сюда, галдели, смеялись, кто-то играл на гитаре, кто-то подпевал, кто-то просто валялся на траве и загорал. И еще очень пахло травой. Воняло. Ха, а и правда, настоящий Вудсток… – Осборн улыбнулся, замолчал, долго думал и по взгляду видно было, как старательно он выбирал, что сказать дальше. – Так вот, мы с отцом сидели на полотенце, на земле, а мама пошла за водой. Мы видели ее, она недалеко была. Я помню, сразу отец заметил, как к маме начали приставать. Вижу даже сейчас, как какой-то мужик подошел и шлепнул ее, потом другие начали обступать другие… Я, честно, отца никогда злым не видел. Он вообще, такой себе пацифик[21 - Международный символ мира, разоружения, антивоенного движения.] в очеловеченной форме. Мухи не обидит. Если его ударят, другую щеку подставит и еще улыбнется. Даже спасибо скажет. Но тогда он приказал мне сесть в машину и понесся к обидчикам мамы. Я не слышал, что он говорил, но слова его подействовали сразу же. Что-то очень серьезное им сказал, может, пригрозил. А они, что самое удивительное, ушли! Просто ушли, даже не стали махать кулаками. Так испугались обыкновенного человеческого слова. Это было невероятно… Я же слышал, как соседские дети говорили о дураках, как сами иногда мутузили друг друга. А тут борьба словами, такая искусная. Я даже тогда, тупицей, смог понять, какой благородный и сильный это поступок…
Парень вздохнул. Бриллианты дождя заплелись в его пшеничных волосах словно капли росы ранним утром в бескрайнем поле.
Осборн был сосредоточен и будто бы опустошен.
– Мама не благодарила его. Ничего не говорила. И он ничего не сказал, когда вернулся. Я, помню, удивился тогда. Во всех книжках за подвиги благодарили. Но у родителей моих это само собой разумеющееся. Они друг другу помогали, потому что знали, что иначе нельзя. Поэтому не говорили никаких «спасибо». И сейчас не говорят. Уже тридцать три года… Помню, я спросил у отца, почему он не затеял драку. Мы уже тогда сидели на траве и ели какую-то вегетарианскую чепуху, которую там многие ели. Отец ответил, что споры кулаками решают только идиоты. Покрутил ложкой вокруг моей головы, как окрестил, и сказал, чтобы я никогда не смел поднимать на других руки. Даже если убивать будут – не драться.
– Так и сказал?
– Да. Он ровный как стрела[22 - (англ. straight as an arrow) Фраза, используемая для описания честного, искреннего и прямолинейного человека.]. – Усмехнулся Осборн. – А еще мне тогда сказал, что ни один уважающий себя человек никогда не будет стоять в стороне, если увидит, как другого обижают. Моя мама бы вступилась за него. Он вступился за нее. Я тогда решил, что буду вступаться за каждого, кого не за дело оскорбляют. Ну или хотя бы пытаться. Жить-то хочется, сама понимаешь, в пьяную драку лучше не влезать, даже в словесную. А так я пообещал быть спасителем всем. За родителей заступаться, за друзей, если сами не смогут… Вот и все. Никакого волшебства. Меня просто так воспитали.
Грейс знала, как днем в воскресенье названивал телефон. Мистер и Миссис Грин специально не тревожили сына в будни. На звонке «Who wants to live forever», медленная, как из сна, как шепот. Она всегда играла долго.
Где-то его ждали на каникулы. Не трогали комнаты, не переставляли разбросанного по углам хлама, даже не убирали осколки разбитой в сердцах гитары. Готовили любимую овощную запеканку и выжимали апельсиновый сок. Собирали вещи, чтобы прогуляться по парку.
Грейс не вмешивалась. Чужая семья – потемки. Но даже ей иногда больно смотреть на то, как блеск глаз Осборна исчезает, стоит увидеть знакомые цифры на экране.
Он ведь так и не простил переезд в Лондон. Не простил повышение отца и новую работу матери. Не простил, что маленький дом они сменили на большую квартиру недалеко от центра, где за окном не шумели деревья, а горели огни паба. Город отверг Осборна, растоптал и запихнул в обыкновенность. В Лондоне не было бесконечных дорог и зеленых лугов, которые так пахли цветами и мокрой после ночи землей. В городе не видно звезд, не услышишь шелеста листьев. В городе, кажется, никто не живет вечно. Даже соседи с трудом запоминаются. Даже одноклассники, даже соседи по парте. Осборн никого не помнил.
Зато ночные переезды под черным небом, исчерченным звездной картой, перекусы в придорожных забегаловках, грязные штаны и постоянно обтесанные коленки он помнил. Каждый запах, каждое прикосновение к траве, притоптанной сотнями пар ног на фестивалях, каждый бит чужих гитар, от которых замирало сердце, каждый слэм [23 - Действие публики на музыкальных концертах, при котором зрители толкаются и сталкиваются друг с другом, обычно возникает на различных рэйв и рок концертах.] и вздымающиеся руки к небесам, каждую руку, гордо показывающую два пальца, помнил. Каждая песня детства стала гимном. Каждую мелодию он мог наиграть по памяти. Фотографии с тех лет хранил в тетрадке, которую держал в ящике тумбочки.
Но все это прошло. Там, казалось, маленький Осборн жил. В его волосах застревали семена цветов, переносимые ветром, от его футболок пахло раскуренной травой, его глаза запомнили взрывы фейерверков после концертов, с его губ срывались восторженные крики.
Большой же Осборн иссяк. В нем, казалось, нет никакого наполнения.
Он долго молчал.
– Ты скучаешь по ним? – аккуратно спросила Грейс, придвинувшись.
Осборн вдохнул ее аромат. Мокрые волосы, соль, холод. Далекий холод, до которого не дотянуться.
– Я? Нет, я не хочу к ним. Просто приятно вспоминать все это… Весело было. Жалко что я был такой безмозглый.
– Ты был ребенком, милый.
– Самое неблагодарное время. Тебе и так и сяк, а тебе только с друзьями червяков бы повыкапывать в саду или попугать соседских кур. Больше ничего не надо.
– У тебя все еще будет. Не печалься. – Грейс положила руку ему на плечо.
– Я? Не, я не грустный, – просипел он и, не справившись, уронил голову на руки.
– Я же вижу. Расскажи, что случилось.
Осборн почесал виски. Пальцы длинные, с отслаивавшимися ногтями. Лицо сосредоточенное и грустное.
– Какая же ты прекрасная, Грейс. Ты даже не представляешь, насколько, – прошептал Осборн и глубоко вздохнул. – Ты все всегда видишь.
– Я очень хочу видеть тебя счастливым, – прошептала Грейс и обняла его одной рукой, аккуратно, чуть касаясь голой шеи.
– Я счастлив с тобой, – сказал он.
– Я знаю, милый. Но я хочу, чтобы ты был счастлив всегда. А сейчас ты грустный.
Осборн вздрогнул, но не сдвинулся с места. Посмотрел на Грейс растерянно.
– Я лучше покажу тебе, почему, чем буду говорить.
Осборн поднялся с кровати только после того, как оперся на плечо Грейс, но не прошел далеко. Зашатался, схватился за край комода и сел на одно колено. Перед глазами снова поплыло. В ушах далеко, словно из другого мира, слышалось, как квакали лягушки.
– Сейчас покажу, покажу, обязательно! – прошептал Осборн и, с трудом, но встал-таки с пола и дошел, чуть покачиваясь, до гитар. Вытащил первую попавшуюся, вытянул из чехла и, преодолев расстояние до кровати в один большой шаг, плюхнулся на матрас.
Он помотал головой, отгоняя назойливое кваканье, слышавшееся ему и на уроках, и на улице, но домотался до того, что голова закружилась и, чтобы не упасть, подставил руку и чуть не выронил гитару.
– Осторожно! – прошептала Грейс.
Осборн пришел в себя, посмотрел на гитару и обреченно фыркнул.
– Дэд, ну конечно. Кто же, как не ты. Он-то меньше продержался…
– Это был совсем особенный случай.
– Но случай же… Ладно, вот, смотри.
Осборн уселся, как сидел обычно, устроил гитару и попытался сыграть мелодию, которую напевал весь день, но пальцы скрючились, задели не те струны, зажали не тот аккорд, и звук получился звонкий, резкий и режущий.
– Нет, нет, это не то, сейчас, сейчас будет.
Осборн отсчитал лады, зажал струны, прокрутив в голове все известные аккорды и ударил.
– Да черт бы тебя побрал!
– Милый, не переживай…
– Мой каподастр[24 - Зажим, который крепится на грифе и поднимает высоту звучания струн.], где он? Мне нужен…
Он обернулся, бросил гитару на кровать, даже не пожалев натерпевшегося Дэда, и пополз по покрывалу к тумбочке.
– Осборн!