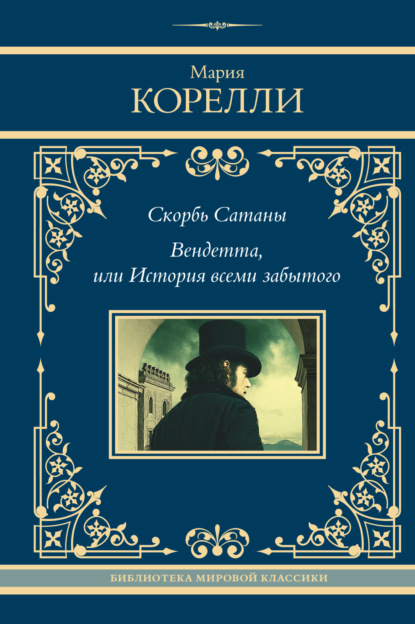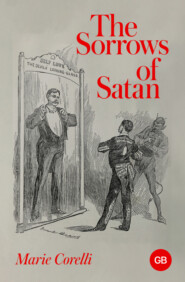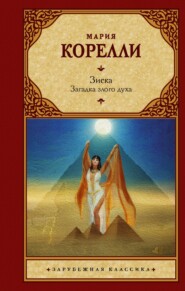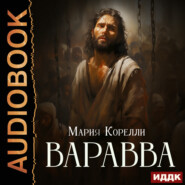По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Скорбь Сатаны. Вендетта, или История всеми забытого
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я вижу, что вы не считаете мою книгу достаточно оригинальной, чтоб обойтись без этого? – Я чувствовал явное раздражение.
– Дорогой сэр! Вы право… право… Что мне сказать? – И он, извиняясь, улыбнулся. – Вы, право, немного резки. Я считаю, что ваша книга показывает высокий уровень образованности и изысканность мысли; если я нахожу в ней недостаток, то это, может быть, потому, что сам не понимаю тонкости. По моему мнению, единственно, чего в ней недостает, это, скажем так, цепкости, за неимением другого выражения, – то есть способности не отпускать внимания читателя, удерживать его точно пригвожденным. Но, в конце концов, это общий недостаток современной литературы; мало авторов достаточно чувствуют сами для того, чтоб заставить чувствовать других.
С минуту я ничего не отвечал: я думал о точно таком же замечании Лючио.
– Хорошо! – наконец сказал я. – Если у меня не было чувства, когда я писал книгу, то теперь уж безусловно у меня нет его. Но, увы, я перечувствовал ее каждую строчку! Мучительно и напряженно!
– Да, в самом деле! – сказал Морджесон мягко. – Или, может быть, вы думали, что чувствовали; это другая, весьма любопытная фаза развития литературного темперамента. Видите ли, чтоб убедить других, нужно сперва самому быть убежденным. Обыкновенно результатом этого бывает особенная притягательная сила, возрастающая между публикой и автором. Положим, у меня плохие доводы: возможно, что в торопливом чтении я вынес ложное впечатление о ваших намерениях. Как бы то ни было, но книга должна иметь успех. Все, что я решаюсь у вас просить, это попытаться лично поладить с Макуином.
Я обещал сделать все, что возможно, и, придя к этому соглашению, мы расстались. Я сознавал, что Морджесон оказался гораздо более проницательным, чем я воображал, и его замечания дали мне пищу для мыслей, не совсем приятных для меня, так как если моей книге действительно, как он сказал, недостает «цепкости», то она не пустит корней в умах людей – она будет просто эфемерным сезонным успехом, одним из тех «модных» литературных продуктов, к которым я питал откровенное презрение, – и слава будет так же далека, как и раньше, за исключением ее дурной имитации, приобретенной благодаря моим миллионам.
В этот день я был в дурном расположении духа, и Лючио заметил это. Он скоро выведал у меня суть разговора с Морджесоном и рассмеялся, узнав о предложении «поладить» с ужасным Макуином. Он взглянул на имена пяти других главных критиков – и пожал плечами.
– Морджесон совершенно прав, – сказал он, – Макуин весьма близок с остальными этими господами. Они встречаются в одних и тех же клубах, обедают в одних и тех же дешевых ресторанах и ухаживают за одними и теми же накрашенными балеринами. Все вместе они составляют маленький братский союз и оказывают друг другу услуги. Вам представился случай. О да! Будь я на вашем месте, я бы поладил с Макуином.
– Но как? – спросил я, так как хотя и знал Макуина довольно хорошо заочно, встречая его имя под литературными статьями почти во всех газетах, но никогда его не видел. – Не могу же я просить об одолжении литературного критика!
– Безусловно нет! – и Лючио опять рассмеялся. – Если бы вы сделали подобную глупость, вы бы испортили все дело! Нет ничего, что доставляет критикам такое же удовольствие, как помыкание автором, унизившимся до просьбы об одолжении перед теми, кто стоит ниже его в умственном отношении! Нет, нет, мой друг! Мы поладим с Макуином совсем иначе. Я знаком с ним.
– Какая приятная новость! – воскликнул я. – Честное слово, Лючио, вы, кажется, знакомы со всем миром.
– Я знаком с большинством людей, сто?ящих знакомства, – ответил спокойно Лючио, – хотя я отнюдь не причисляю мистера Макуина к этой категории. Мне случилось познакомиться с ним при особенных обстоятельствах. Это было в Швейцарии, на опасном выступе скалы, имеющем название Mauvais Pas [8 - Неверный шаг (фр.).]. Несколько недель я провел в окрестностях по своим делам и, будучи бесстрашным и твердым на ногу, часто предлагал свои услуги проводника. В этом звании любителя-проводника капризная судьба дала мне удовольствие провожать трусливого и желчного Макуина через ращелины ледника Мер-де-Глас, и я разговаривал с ним все время на изысканном французском языке, о котором он, несмотря на всю свою хваленую ученость, имел жалкое представление. Я знал, кто он был, и, зная его коварство, давно смотрел на него как на одного из легальных убийц честолюбивых гениев. Когда я привел его к Mauvais Pas, я заметил, что у него закружилась голова; держа его крепко за руку, я обратился к нему по-английски: «Мистер Макуин, вы написали возмутительную и достойную осуждения статью о работе такого-то поэта, – и я назвал фамилию, – статью, которая была целым сплетением лжи от начала до конца и которая своей жестокостью и ядом отравила жизнь человеку, подававшему блестящие надежды, и сломила его благородный дух. Теперь, если вы не пообещаете мне напечатать в ведущем журнале полное опровержение вашей статьи, когда вы вернетесь в Англию – если вы вернетесь! – дав оскорбленному человеку «почетный отзыв», которого он справедливо заслуживает, вы полетите вниз! Мне стоит лишь выпустить вас из рук!» Джеффри, видели бы вы тогда Макуина! Он стонал, он извивался, он цеплялся! Никогда этот оракул не был в таком положении, когда почти не мог говорить. «Караул! Караул!» – пытался он крикнуть, но голос изменил ему. Над ним возвышались снежные пики, подобно вершинам той славы, которой он не мог достигнуть, а потому не позволял достичь другим; под ним зияла прозрачная бездна, где ледяные волны переливались опалово-голубым и зеленым цветом, а где-то вдали коровьи колокольчики оглашали спокойный и безмолвный воздух, напоминая о зеленых пастбищах и счастливых жилищах. «Караул!» – прохрипел он. «Нет, – сказал я, – это мне следовало бы крикнуть “Караул!”, так как если когда-либо чья-то рука держала убийцу, то это моя держит его теперь. Ваша система убийства хуже системы ночного разбойника, потому что разбойник убивает тело, вы же стараетесь убить душу. Вам это не удается, но сама попытка уже гнусна. Ни крики, ни борьба здесь не помогут вам: мы одни с вечной природой; отдайте запоздалую справедливость оклеветанному вами человеку, или, в противном случае, как я уже сказал, вы полетите вниз!» Хорошо, чтобы сократить мой рассказ, он уступил и поклялся сделать то, что я требовал. Тогда, обняв его рукой, как если бы он был моим любимым братом-близнецом, я благополучно свел его с Mauvais Pas, и, когда мы очутились внизу горы, он или от испытанного страха, или от последствий головокружения упал на землю, горько плача. Поверите ли вы, что прежде, чем мы достигли Шамони, мы сделались лучшими друзьями на свете! Он признался мне в своих гадких поступках и благодарил меня за данную ему возможность облегчить свою совесть; мы обменялись карточками, и, расставаясь, этот самый Макуин, пугало авторов, расчувствовавшись после виски и грога (как вам известно, он шотландец), поклялся, что я самый великий человек в мире и что, если когда-нибудь представится случай оказать мне услугу, он ее окажет. «Вы не поэт сами?» – бормотал он, заваливаясь на постель. Я сказал, что нет. «Мне очень жаль! – заявил он, и слезы от виски показались на его глазах. – Если бы вы были поэт, я бы многое для вас сделал, я бы стал рекламировать вас даром!» Я оставил его благородно храпящим и больше не видал. Но я думаю, что он узнает меня, я пойду к нему сам. Клянусь всеми богами, если б он только знал, кто держал его между жизнью и смертью на Mauvais Pas!
Я смотрел на него в недоумении.
– Но он же знал. Ведь вы обменялись карточками.
– Да, но это было потом! – И Лючио засмеялся. – Могу вас уверить, мой друг, что мы «поладим» с Макуином!
Я чрезвычайно заинтересовался рассказанной историей, тем более что Риманец обладал большим драматическим талантом и с помощью жестов ясно воспроизвел всю сцену перед моими глазами, как картину. Я невольно высказал свои мысли:
– Вы были бы, без сомнения, великолепным актером, Лючио!
– Откуда вы знаете, что я не актер? – спросил он с пылающим взором, затем быстро прибавил: – Нет, не стоит красить лицо и ломаться на подмостках, как нанятый шут, чтобы войти в историю! Лучший актер – тот, кто превосходно играет комедию в жизни, что я и стремлюсь делать. Красиво ходить, красиво говорить, красиво улыбаться, красиво плакать, красиво стонать, красиво смеяться и красиво умереть! Все это чистейшая комедия, потому что в каждом человеке живет немой, страшный, бессмертный дух, который не может притворяться, который есть и который выражает бесконечный, хоть и безмолвный протест против лжи тела!
Я ничего не сказал в ответ на эту вспышку, я начинал привыкать к его переменчивому настроению и странной манере излагать свои мысли. Они увеличивали таинственное влечение, какое я чувствовал к нему, и делали его характер вечной загадкой для меня, не лишенной скрытого очарования. По временам я сознавал с несколько пугающим ощущением самоунижения, что я нахожусь совершенно под его властью, что моя жизнь всецело подчинена его контролю и влиянию, и старался убедить самого себя, что это, несомненно, хорошо, потому что он имеет гораздо больший опыт и влияние.
В тот вечер мы обедали вместе, что случалось довольно часто, и наш разговор вертелся исключительно вокруг материальных и деловых вопросов. По совету Лючио я сделал несколько крупных инвестиций, что и дало нам обширную тему для обсуждения.
Был ясный морозный вечер, приятный для прогулки, и около одиннадцати часов мы вышли; нашей целью был частный игорный клуб, куда мой товарищ захотел ввести меня в качестве гостя. Дом, где помещался этот клуб, находился на таинственной маленькой улице, недалеко от респектабельной Пэлл-Мэлл, и снаружи имел довольно скромный вид, но внутри отличался роскошной, хотя безвкусной отделкой. По всей видимости, распоряжалась здесь женщина с подведенными глазами и крашеными волосами, которая встретила нас среди блестящих огней великолепной англо-японской гостиной. Ее вид и манеры свидетельствовали о том, что она принадлежит к дамам полусвета самого распространенного типа и является одним из тех «чистых» созданий с «прошлым», изображаемых в качестве жертв мужских пороков! Лючио что-то ей сказал, она взглянула на меня с уважением и улыбнулась, потом позвонила. Появился скромного вида лакей во фраке. По едва заметному знаку своей хозяйки он поклонился мне, когда я проходил мимо, и провел нас наверх. Мы шли по ковру из мягчайшего войлока, и я заметил, что в этом заведении были приложены заметные усилия, чтобы все сделать бесшумным; даже двери, обитые толстой байкой, двигались на немых петлях. На верхней площадке слуга осторожно постучал в боковую дверь; ключ повернулся в замке, и мы вошли в длинную комнату, ярко освещенную электрическими лампами и наполненную людьми, играющими в красное и черное и баккара. Некоторые посмотрели на Лючио, когда он вошел, и кивнули с улыбкой, другие уставились с любопытством на меня, но в общем наше появление было мало замечено.
Лючио сел, чтобы следить за игрой; я последовал его примеру и сейчас же почувствовал себя зараженным тем чрезмерным возбуждением, царившим в комнате, которое походило на безмолвную напряженность воздуха перед грозой.
Я узнал лица многих хорошо известных людей – политиков и общественных деятелей, которых бы никто не заподозрил в том, что они способны поддерживать игорный дом своим присутствием и авторитетом. Но я постарался ничем не показать своего удивления и спокойно наблюдал за игрой и игроками почти с таким же бесстрастием, как и мой приятель. Я был готов играть и проигрывать, но не был готов к странной сцене, вскоре разыгравшейся, в которой мне в силу обстоятельств пришлось принять участие.
X
Как только игра, за которой мы следили, окончилась, игроки встали и горячо и многословно приветствовали Лючио. По их обращению я понял, что они смотрели на него как на влиятельного члена клуба – на лицо, способное дать им взаймы и оказать другую финансовую помощь. Он представил меня им, и я тут же заметил, какой эффект произвело мое имя на большинство из них. Меня попросили присоединиться к игре в баккара, и я тотчас согласился. Ставки были разорительно высоки, но меня это ничуть не пугало. Одним из игроков возле меня был светловолосый молодой человек с красивым лицом и аристократическими манерами. Мне представили его как виконта Линтона. Я обратил на него особое внимание из-за его беспечной манеры удваивать свои ставки, по-видимому, только ради бравады, а когда он проигрывал, что случалось чаще всего, он шумно хохотал, как если б был пьян или в бреду. Сначала я был совершенно равнодушен к результатам игры и ничуть не заботился, буду ли я в выигрыше или проигрыше. Лючио не присоединился к нам, но сидел поодаль, спокойно наблюдая и, как мне казалось, следя более за мной, чем за другими. По счастливой случайности мне везло, и я постоянно выигрывал. И чем больше я выигрывал, тем в большее возбуждение приходил, пока вдруг мое настроение не изменилось и меня не охватило необъяснимое желание проиграть. Я думаю, это было проявление лучшей стороны моей натуры, молодой виконт казался буквально обезумевшим от моих постоянных выигрышей и продолжал свою отчаянную игру. Его лицо вытянулось и похудело, а его глаза лихорадочно блестели. Другие игроки, хоть и разделяли его невезение, по-видимому, переносили это спокойнее или, может, искуснее скрывали свои чувства. Как бы то ни было, но я от души желал, чтобы мое дьявольское везение перешло на сторону молодого Линтона. Но мое желание было напрасно: опять и опять я забирал все куши, пока наконец игроки не встали, и виконт Линтон с ними.
– Дочиста проигрался! – сказал он с деланым громким смехом. – Вы должны завтра дать мне возможность реванша, мистер Темпест!
Я поклонился.
– С удовольствием!
Он позвал человека и велел принести себе бренди с содовой водой, а остальные тем временем окружили меня, горячо требуя, чтобы я вернулся на следующий вечер в клуб и дал им возможность отыграть то, что сегодня они потеряли. Я тотчас согласился, и, пока мы вели этот разговор, Лючио вдруг обратился к молодому Линтону:
– Не хотите ли сыграть со мной? Для начала я внесу в банк вот это. – И он положил на стол два хрустящих банковских билета по пятьсот фунтов каждый.
Один момент все молчали.
Виконт жадно пил бренди с содовой и смотрел на билеты поверх высокого стакана алчными, налитыми кровью глазами. Потом он равнодушно пожал плечами.
– Я ничего не могу поставить, я уже сказал вам, что дочиста проигрался и не могу больше играть.
– Садитесь, садитесь, Линтон! – настаивал один из игроков, стоявший вблизи него. – Займите у меня и играйте.
– Благодарю, – возразил тот, слегка вспыхнув, – я и так уж слишком много вам должен. Во всяком случае, это очень любезно с вашей стороны. Вы продолжайте, господа, а я посмотрю.
– Позвольте мне уговорить вас, виконт, – промолвил Лючио, глядя на него со своей загадочной улыбкой, – только для удовольствия! Если вы не можете поставить денег, поставьте какой-нибудь пустяк, что-нибудь номинальное, только для того, чтоб увидеть, повернется ли к вам удача. – И он достал жетон.
– Это часто изображает пятьдесят фунтов; пусть на этот раз он изобразит нечто более ценное, чем деньги, – вашу душу, например!
Раздался взрыв хохота.
Лючио смеялся вместе со всеми.
– Я надеюсь, что мы все настолько просвещены современными науками, что не признаем существования такой вещи, как душа, – продолжал он, – поэтому, предложив ее как ставку, я, в сущности, предложил меньше чем один волосок из вашей головы, потому что волосок есть нечто, а душа – ничто! Хотите рискнуть этой несуществующей величиной и наудачу выиграть тысячу фунтов?
Виконт допил бренди до последней капли и повернулся к нам. Его глаза горели насмешливо и вызывающе.
– Ладно! – воскликнул он.
Между тем компания уселась. Игра была короткой и такой азартной, что закончилась буквально на одном дыхании. Достаточно было шести-семи минут, и Лючио встал победителем. Он улыбнулся, указывая на жетон, изображающий последнюю ставку виконта Линтона.
– Я выиграл! – произнес он спокойно. – Но вы мне ничего не должны, дорогой виконт, поскольку вы рисковали «ничем»! Мы играли только для удовольствия. Если б душа существовала, я бы, конечно, потребовал вашу; между прочим, не знаю, что бы я с ней делал! – и он засмеялся. – Что за глупости, не правда ли! И как мы должны быть благодарны, что живем в просвещенное время, когда подобные глупые суеверия уступили прогрессу и чистому разуму! Покойной ночи! Завтра Темпест и я дадим вам возможность полного реванша, – безусловно, удача переменится и вы наверное одержите победу. Еще раз покойной ночи!
Он протянул свою руку; трогательная нежность светилась в его темных глазах, в его манере была поразительная кротость. Что-то – я не мог определить что – держало нас всех с минуту точно очарованными. Многие игроки на других столах услышали об эксцентричной ставке и теперь смотрели на нас издали с любопытством. Между тем виконт Линтон внешне был чрезмерно весел и горячо пожал протянутую руку Лючио.
– Вы удивительно хороший человек, – произнес он быстро и несколько неловко. – И уверяю вас, что, если бы у меня была душа, я бы тотчас же с удовольствием отдал ее за тысячу фунтов. Душа для меня бесполезна, а тысяча фунтов мне бы очень пригодились. Но я убежден, что выиграю завтра!
– И я в этом уверен, – ласково проговорил Лючио. – Тем временем вы не найдете моего друга, Джеффри Темпеста, слишком требовательным кредитором – он может подождать. Но что касается проигранной вами души, – тут он остановился, пристально глядя в глаза молодого человека, – то я, конечно, ждать не могу!
Виконт неопределенно улыбнулся на эту шутку и почти тотчас после этого покинул клуб.
Как только дверь за ним закрылась, многие из игроков обменялись многозначительными взглядами и кивками.
– Разорен! – сказал один из них вполголоса.
– Дорогой сэр! Вы право… право… Что мне сказать? – И он, извиняясь, улыбнулся. – Вы, право, немного резки. Я считаю, что ваша книга показывает высокий уровень образованности и изысканность мысли; если я нахожу в ней недостаток, то это, может быть, потому, что сам не понимаю тонкости. По моему мнению, единственно, чего в ней недостает, это, скажем так, цепкости, за неимением другого выражения, – то есть способности не отпускать внимания читателя, удерживать его точно пригвожденным. Но, в конце концов, это общий недостаток современной литературы; мало авторов достаточно чувствуют сами для того, чтоб заставить чувствовать других.
С минуту я ничего не отвечал: я думал о точно таком же замечании Лючио.
– Хорошо! – наконец сказал я. – Если у меня не было чувства, когда я писал книгу, то теперь уж безусловно у меня нет его. Но, увы, я перечувствовал ее каждую строчку! Мучительно и напряженно!
– Да, в самом деле! – сказал Морджесон мягко. – Или, может быть, вы думали, что чувствовали; это другая, весьма любопытная фаза развития литературного темперамента. Видите ли, чтоб убедить других, нужно сперва самому быть убежденным. Обыкновенно результатом этого бывает особенная притягательная сила, возрастающая между публикой и автором. Положим, у меня плохие доводы: возможно, что в торопливом чтении я вынес ложное впечатление о ваших намерениях. Как бы то ни было, но книга должна иметь успех. Все, что я решаюсь у вас просить, это попытаться лично поладить с Макуином.
Я обещал сделать все, что возможно, и, придя к этому соглашению, мы расстались. Я сознавал, что Морджесон оказался гораздо более проницательным, чем я воображал, и его замечания дали мне пищу для мыслей, не совсем приятных для меня, так как если моей книге действительно, как он сказал, недостает «цепкости», то она не пустит корней в умах людей – она будет просто эфемерным сезонным успехом, одним из тех «модных» литературных продуктов, к которым я питал откровенное презрение, – и слава будет так же далека, как и раньше, за исключением ее дурной имитации, приобретенной благодаря моим миллионам.
В этот день я был в дурном расположении духа, и Лючио заметил это. Он скоро выведал у меня суть разговора с Морджесоном и рассмеялся, узнав о предложении «поладить» с ужасным Макуином. Он взглянул на имена пяти других главных критиков – и пожал плечами.
– Морджесон совершенно прав, – сказал он, – Макуин весьма близок с остальными этими господами. Они встречаются в одних и тех же клубах, обедают в одних и тех же дешевых ресторанах и ухаживают за одними и теми же накрашенными балеринами. Все вместе они составляют маленький братский союз и оказывают друг другу услуги. Вам представился случай. О да! Будь я на вашем месте, я бы поладил с Макуином.
– Но как? – спросил я, так как хотя и знал Макуина довольно хорошо заочно, встречая его имя под литературными статьями почти во всех газетах, но никогда его не видел. – Не могу же я просить об одолжении литературного критика!
– Безусловно нет! – и Лючио опять рассмеялся. – Если бы вы сделали подобную глупость, вы бы испортили все дело! Нет ничего, что доставляет критикам такое же удовольствие, как помыкание автором, унизившимся до просьбы об одолжении перед теми, кто стоит ниже его в умственном отношении! Нет, нет, мой друг! Мы поладим с Макуином совсем иначе. Я знаком с ним.
– Какая приятная новость! – воскликнул я. – Честное слово, Лючио, вы, кажется, знакомы со всем миром.
– Я знаком с большинством людей, сто?ящих знакомства, – ответил спокойно Лючио, – хотя я отнюдь не причисляю мистера Макуина к этой категории. Мне случилось познакомиться с ним при особенных обстоятельствах. Это было в Швейцарии, на опасном выступе скалы, имеющем название Mauvais Pas [8 - Неверный шаг (фр.).]. Несколько недель я провел в окрестностях по своим делам и, будучи бесстрашным и твердым на ногу, часто предлагал свои услуги проводника. В этом звании любителя-проводника капризная судьба дала мне удовольствие провожать трусливого и желчного Макуина через ращелины ледника Мер-де-Глас, и я разговаривал с ним все время на изысканном французском языке, о котором он, несмотря на всю свою хваленую ученость, имел жалкое представление. Я знал, кто он был, и, зная его коварство, давно смотрел на него как на одного из легальных убийц честолюбивых гениев. Когда я привел его к Mauvais Pas, я заметил, что у него закружилась голова; держа его крепко за руку, я обратился к нему по-английски: «Мистер Макуин, вы написали возмутительную и достойную осуждения статью о работе такого-то поэта, – и я назвал фамилию, – статью, которая была целым сплетением лжи от начала до конца и которая своей жестокостью и ядом отравила жизнь человеку, подававшему блестящие надежды, и сломила его благородный дух. Теперь, если вы не пообещаете мне напечатать в ведущем журнале полное опровержение вашей статьи, когда вы вернетесь в Англию – если вы вернетесь! – дав оскорбленному человеку «почетный отзыв», которого он справедливо заслуживает, вы полетите вниз! Мне стоит лишь выпустить вас из рук!» Джеффри, видели бы вы тогда Макуина! Он стонал, он извивался, он цеплялся! Никогда этот оракул не был в таком положении, когда почти не мог говорить. «Караул! Караул!» – пытался он крикнуть, но голос изменил ему. Над ним возвышались снежные пики, подобно вершинам той славы, которой он не мог достигнуть, а потому не позволял достичь другим; под ним зияла прозрачная бездна, где ледяные волны переливались опалово-голубым и зеленым цветом, а где-то вдали коровьи колокольчики оглашали спокойный и безмолвный воздух, напоминая о зеленых пастбищах и счастливых жилищах. «Караул!» – прохрипел он. «Нет, – сказал я, – это мне следовало бы крикнуть “Караул!”, так как если когда-либо чья-то рука держала убийцу, то это моя держит его теперь. Ваша система убийства хуже системы ночного разбойника, потому что разбойник убивает тело, вы же стараетесь убить душу. Вам это не удается, но сама попытка уже гнусна. Ни крики, ни борьба здесь не помогут вам: мы одни с вечной природой; отдайте запоздалую справедливость оклеветанному вами человеку, или, в противном случае, как я уже сказал, вы полетите вниз!» Хорошо, чтобы сократить мой рассказ, он уступил и поклялся сделать то, что я требовал. Тогда, обняв его рукой, как если бы он был моим любимым братом-близнецом, я благополучно свел его с Mauvais Pas, и, когда мы очутились внизу горы, он или от испытанного страха, или от последствий головокружения упал на землю, горько плача. Поверите ли вы, что прежде, чем мы достигли Шамони, мы сделались лучшими друзьями на свете! Он признался мне в своих гадких поступках и благодарил меня за данную ему возможность облегчить свою совесть; мы обменялись карточками, и, расставаясь, этот самый Макуин, пугало авторов, расчувствовавшись после виски и грога (как вам известно, он шотландец), поклялся, что я самый великий человек в мире и что, если когда-нибудь представится случай оказать мне услугу, он ее окажет. «Вы не поэт сами?» – бормотал он, заваливаясь на постель. Я сказал, что нет. «Мне очень жаль! – заявил он, и слезы от виски показались на его глазах. – Если бы вы были поэт, я бы многое для вас сделал, я бы стал рекламировать вас даром!» Я оставил его благородно храпящим и больше не видал. Но я думаю, что он узнает меня, я пойду к нему сам. Клянусь всеми богами, если б он только знал, кто держал его между жизнью и смертью на Mauvais Pas!
Я смотрел на него в недоумении.
– Но он же знал. Ведь вы обменялись карточками.
– Да, но это было потом! – И Лючио засмеялся. – Могу вас уверить, мой друг, что мы «поладим» с Макуином!
Я чрезвычайно заинтересовался рассказанной историей, тем более что Риманец обладал большим драматическим талантом и с помощью жестов ясно воспроизвел всю сцену перед моими глазами, как картину. Я невольно высказал свои мысли:
– Вы были бы, без сомнения, великолепным актером, Лючио!
– Откуда вы знаете, что я не актер? – спросил он с пылающим взором, затем быстро прибавил: – Нет, не стоит красить лицо и ломаться на подмостках, как нанятый шут, чтобы войти в историю! Лучший актер – тот, кто превосходно играет комедию в жизни, что я и стремлюсь делать. Красиво ходить, красиво говорить, красиво улыбаться, красиво плакать, красиво стонать, красиво смеяться и красиво умереть! Все это чистейшая комедия, потому что в каждом человеке живет немой, страшный, бессмертный дух, который не может притворяться, который есть и который выражает бесконечный, хоть и безмолвный протест против лжи тела!
Я ничего не сказал в ответ на эту вспышку, я начинал привыкать к его переменчивому настроению и странной манере излагать свои мысли. Они увеличивали таинственное влечение, какое я чувствовал к нему, и делали его характер вечной загадкой для меня, не лишенной скрытого очарования. По временам я сознавал с несколько пугающим ощущением самоунижения, что я нахожусь совершенно под его властью, что моя жизнь всецело подчинена его контролю и влиянию, и старался убедить самого себя, что это, несомненно, хорошо, потому что он имеет гораздо больший опыт и влияние.
В тот вечер мы обедали вместе, что случалось довольно часто, и наш разговор вертелся исключительно вокруг материальных и деловых вопросов. По совету Лючио я сделал несколько крупных инвестиций, что и дало нам обширную тему для обсуждения.
Был ясный морозный вечер, приятный для прогулки, и около одиннадцати часов мы вышли; нашей целью был частный игорный клуб, куда мой товарищ захотел ввести меня в качестве гостя. Дом, где помещался этот клуб, находился на таинственной маленькой улице, недалеко от респектабельной Пэлл-Мэлл, и снаружи имел довольно скромный вид, но внутри отличался роскошной, хотя безвкусной отделкой. По всей видимости, распоряжалась здесь женщина с подведенными глазами и крашеными волосами, которая встретила нас среди блестящих огней великолепной англо-японской гостиной. Ее вид и манеры свидетельствовали о том, что она принадлежит к дамам полусвета самого распространенного типа и является одним из тех «чистых» созданий с «прошлым», изображаемых в качестве жертв мужских пороков! Лючио что-то ей сказал, она взглянула на меня с уважением и улыбнулась, потом позвонила. Появился скромного вида лакей во фраке. По едва заметному знаку своей хозяйки он поклонился мне, когда я проходил мимо, и провел нас наверх. Мы шли по ковру из мягчайшего войлока, и я заметил, что в этом заведении были приложены заметные усилия, чтобы все сделать бесшумным; даже двери, обитые толстой байкой, двигались на немых петлях. На верхней площадке слуга осторожно постучал в боковую дверь; ключ повернулся в замке, и мы вошли в длинную комнату, ярко освещенную электрическими лампами и наполненную людьми, играющими в красное и черное и баккара. Некоторые посмотрели на Лючио, когда он вошел, и кивнули с улыбкой, другие уставились с любопытством на меня, но в общем наше появление было мало замечено.
Лючио сел, чтобы следить за игрой; я последовал его примеру и сейчас же почувствовал себя зараженным тем чрезмерным возбуждением, царившим в комнате, которое походило на безмолвную напряженность воздуха перед грозой.
Я узнал лица многих хорошо известных людей – политиков и общественных деятелей, которых бы никто не заподозрил в том, что они способны поддерживать игорный дом своим присутствием и авторитетом. Но я постарался ничем не показать своего удивления и спокойно наблюдал за игрой и игроками почти с таким же бесстрастием, как и мой приятель. Я был готов играть и проигрывать, но не был готов к странной сцене, вскоре разыгравшейся, в которой мне в силу обстоятельств пришлось принять участие.
X
Как только игра, за которой мы следили, окончилась, игроки встали и горячо и многословно приветствовали Лючио. По их обращению я понял, что они смотрели на него как на влиятельного члена клуба – на лицо, способное дать им взаймы и оказать другую финансовую помощь. Он представил меня им, и я тут же заметил, какой эффект произвело мое имя на большинство из них. Меня попросили присоединиться к игре в баккара, и я тотчас согласился. Ставки были разорительно высоки, но меня это ничуть не пугало. Одним из игроков возле меня был светловолосый молодой человек с красивым лицом и аристократическими манерами. Мне представили его как виконта Линтона. Я обратил на него особое внимание из-за его беспечной манеры удваивать свои ставки, по-видимому, только ради бравады, а когда он проигрывал, что случалось чаще всего, он шумно хохотал, как если б был пьян или в бреду. Сначала я был совершенно равнодушен к результатам игры и ничуть не заботился, буду ли я в выигрыше или проигрыше. Лючио не присоединился к нам, но сидел поодаль, спокойно наблюдая и, как мне казалось, следя более за мной, чем за другими. По счастливой случайности мне везло, и я постоянно выигрывал. И чем больше я выигрывал, тем в большее возбуждение приходил, пока вдруг мое настроение не изменилось и меня не охватило необъяснимое желание проиграть. Я думаю, это было проявление лучшей стороны моей натуры, молодой виконт казался буквально обезумевшим от моих постоянных выигрышей и продолжал свою отчаянную игру. Его лицо вытянулось и похудело, а его глаза лихорадочно блестели. Другие игроки, хоть и разделяли его невезение, по-видимому, переносили это спокойнее или, может, искуснее скрывали свои чувства. Как бы то ни было, но я от души желал, чтобы мое дьявольское везение перешло на сторону молодого Линтона. Но мое желание было напрасно: опять и опять я забирал все куши, пока наконец игроки не встали, и виконт Линтон с ними.
– Дочиста проигрался! – сказал он с деланым громким смехом. – Вы должны завтра дать мне возможность реванша, мистер Темпест!
Я поклонился.
– С удовольствием!
Он позвал человека и велел принести себе бренди с содовой водой, а остальные тем временем окружили меня, горячо требуя, чтобы я вернулся на следующий вечер в клуб и дал им возможность отыграть то, что сегодня они потеряли. Я тотчас согласился, и, пока мы вели этот разговор, Лючио вдруг обратился к молодому Линтону:
– Не хотите ли сыграть со мной? Для начала я внесу в банк вот это. – И он положил на стол два хрустящих банковских билета по пятьсот фунтов каждый.
Один момент все молчали.
Виконт жадно пил бренди с содовой и смотрел на билеты поверх высокого стакана алчными, налитыми кровью глазами. Потом он равнодушно пожал плечами.
– Я ничего не могу поставить, я уже сказал вам, что дочиста проигрался и не могу больше играть.
– Садитесь, садитесь, Линтон! – настаивал один из игроков, стоявший вблизи него. – Займите у меня и играйте.
– Благодарю, – возразил тот, слегка вспыхнув, – я и так уж слишком много вам должен. Во всяком случае, это очень любезно с вашей стороны. Вы продолжайте, господа, а я посмотрю.
– Позвольте мне уговорить вас, виконт, – промолвил Лючио, глядя на него со своей загадочной улыбкой, – только для удовольствия! Если вы не можете поставить денег, поставьте какой-нибудь пустяк, что-нибудь номинальное, только для того, чтоб увидеть, повернется ли к вам удача. – И он достал жетон.
– Это часто изображает пятьдесят фунтов; пусть на этот раз он изобразит нечто более ценное, чем деньги, – вашу душу, например!
Раздался взрыв хохота.
Лючио смеялся вместе со всеми.
– Я надеюсь, что мы все настолько просвещены современными науками, что не признаем существования такой вещи, как душа, – продолжал он, – поэтому, предложив ее как ставку, я, в сущности, предложил меньше чем один волосок из вашей головы, потому что волосок есть нечто, а душа – ничто! Хотите рискнуть этой несуществующей величиной и наудачу выиграть тысячу фунтов?
Виконт допил бренди до последней капли и повернулся к нам. Его глаза горели насмешливо и вызывающе.
– Ладно! – воскликнул он.
Между тем компания уселась. Игра была короткой и такой азартной, что закончилась буквально на одном дыхании. Достаточно было шести-семи минут, и Лючио встал победителем. Он улыбнулся, указывая на жетон, изображающий последнюю ставку виконта Линтона.
– Я выиграл! – произнес он спокойно. – Но вы мне ничего не должны, дорогой виконт, поскольку вы рисковали «ничем»! Мы играли только для удовольствия. Если б душа существовала, я бы, конечно, потребовал вашу; между прочим, не знаю, что бы я с ней делал! – и он засмеялся. – Что за глупости, не правда ли! И как мы должны быть благодарны, что живем в просвещенное время, когда подобные глупые суеверия уступили прогрессу и чистому разуму! Покойной ночи! Завтра Темпест и я дадим вам возможность полного реванша, – безусловно, удача переменится и вы наверное одержите победу. Еще раз покойной ночи!
Он протянул свою руку; трогательная нежность светилась в его темных глазах, в его манере была поразительная кротость. Что-то – я не мог определить что – держало нас всех с минуту точно очарованными. Многие игроки на других столах услышали об эксцентричной ставке и теперь смотрели на нас издали с любопытством. Между тем виконт Линтон внешне был чрезмерно весел и горячо пожал протянутую руку Лючио.
– Вы удивительно хороший человек, – произнес он быстро и несколько неловко. – И уверяю вас, что, если бы у меня была душа, я бы тотчас же с удовольствием отдал ее за тысячу фунтов. Душа для меня бесполезна, а тысяча фунтов мне бы очень пригодились. Но я убежден, что выиграю завтра!
– И я в этом уверен, – ласково проговорил Лючио. – Тем временем вы не найдете моего друга, Джеффри Темпеста, слишком требовательным кредитором – он может подождать. Но что касается проигранной вами души, – тут он остановился, пристально глядя в глаза молодого человека, – то я, конечно, ждать не могу!
Виконт неопределенно улыбнулся на эту шутку и почти тотчас после этого покинул клуб.
Как только дверь за ним закрылась, многие из игроков обменялись многозначительными взглядами и кивками.
– Разорен! – сказал один из них вполголоса.