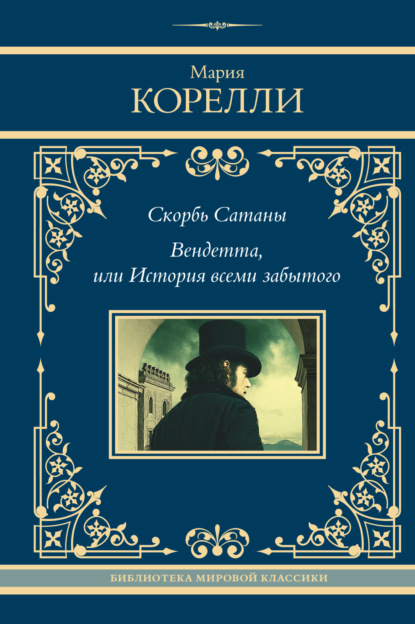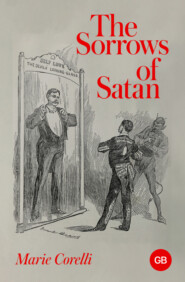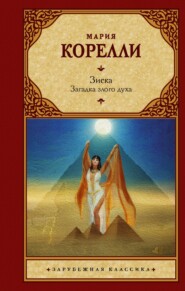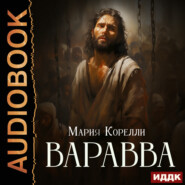По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Скорбь Сатаны. Вендетта, или История всеми забытого
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Это ортодоксальный круг общественного успеха, – сказал Лючио с восхитительной серьезностью. – Ум и оригинальность не добьются его, только деньги совершают все.
– Вы забыли о моей книге, – заметил я, – в ней, я знаю, есть и ум, и также оригинальность. Я уверен, что она поднимет меня на значительную высоту.
– Сомневаюсь, очень сомневаюсь, – ответил он. – Она, конечно, будет принята благосклонно, как произведение богача, забавляющегося литературой из прихоти. Но, как я уже сказал, гений редко развивается под влиянием богатства. К тому же аристократы не могут выкинуть из своих одурманенных голов, что литература принадлежит Граб-стрит [3 - Название лондонской улицы, где продавались дешевые издания и жили преимущественно бедные писатели. – Примеч. ред.]. Великих поэтов, великих философов, великих романистов представители «высшего» общества обычно неопределенно называют «людьми этого сорта». «Люди этого сорта так интересны», – снисходительно говорят олухи голубой крови, словно извиняясь за знакомство с некоторыми членами литературного класса. Вообразите себе чопорную леди времен Елизаветы, обращающуюся к приятельнице: «Ты разрешишь, дорогая, представить тебе некоего Уильяма Шекспира? Он пишет пьесы и что-то делает в театре “Глобус”, боюсь даже, что он немного актерствует; он очень нуждается, бедняга, но люди этого сорта так забавны!» Вы, мой дорогой Темпест, не Шекспир, но ваши миллионы дадут вам более шансов, чем он когда-либо имел в своей жизни, и так как вам незачем искать покровительства или выказывать почтение «моему лорду» или «моей леди», – эти высокие особы только обрадуются случаю занять у вас деньги, если вы готовы будете их одолжить.
– Я не собираюсь давать взаймы.
– А давать просто так?
– Тоже нет.
Его проницательные глаза блеснули одобрением, и он сказал:
– Я очень рад, что вы не намерены «творить добро» вашими деньгами, как говорят ханжи. Вы умны! Тратьте их на себя, потому что тем самым вы обязательно принесете пользу другим, пусть и иными способами. Я всегда принимаю участие в благотворительности и вношу свое имя в подписные листы и никогда не отказываю в помощи духовенству.
– Удивляюсь этому, – заметил я, – особенно после того, как вы сказали, что не являетесь христианином.
– Да, это действительно кажется странным, не правда ли? – сказал он особенным тоном, извиняющим скрытую насмешку. – Но, может быть, вам стоит взглянуть на это с другой стороны. Духовенство делает все возможное, чтобы разрушить религию – ханжеством, лицемерием, чувственностью и всевозможными обманами, – и когда они обращаются ко мне за помощью в таком благородном деле, я оказываю ее с легкостью.
Я засмеялся.
– Очевидно, вы шутите, – сказал я, бросая окурок сигары в огонь, – и я вижу, что вы любите осмеивать свои добрые дела… Что это?
В этот момент вошел Амиэль, неся мне телеграмму на серебряном подносе. Я открыл ее: она была от моего приятеля, редактора, и содержала следующее:
С удовольствием принимаю книгу. Высылайте рукопись немедленно.
Я с торжествующим видом показал телеграмму Риманцу. Он улыбнулся.
– Само собой разумеется! Чего же другого вы ожидали? Только этот человек должен был иначе написать свою телеграмму, так как я не могу предположить, чтобы он принял вашу книгу с удовольствием, если б не рассчитывал хорошо на ней нажиться. «С удовольствием принимаю деньги за издание книги» – так было бы вернее. Хорошо, что же вы намерены делать?
– Это я сейчас решу, – ответил я, чувствуя удовлетворение оттого, что наконец-то пришло время для отмщения некоторым моим врагам. – Книга должна быть напечатана как можно скорее, и я с особенным удовольствием лично займусь всеми относящимися к ней деталями. Что же касается остальных моих планов…
– Предоставьте их мне, – сказал Риманец, властно кладя безукоризненной формы руку на мое плечо, – предоставьте их мне! И будьте уверены, что очень скоро вы окажетесь наверху, как медведь, удачно достигнувший лепешки на вершине смазанного жиром столба, – к зависти людей и изумлению ангелов.
VII
Три или четыре недели пролетели вихрем, и к концу их я с трудом узнавал себя в праздном, беспечном, экстравагантном светском человеке, которым неожиданно сделался. Иногда, случайно, в уединенные минуты, прошлое с его неприглядными картинами возвращалось ко мне, как в калейдоскопе, и я видел себя – голодного, плохо одетого, склонившегося над бумагами в своей унылой квартире, несчастного, но среди всего этого несчастия, однако, получавшего отраду в мыслях, которые создавали красоту из нищеты и любовь из одиночества. Эта творческая способность теперь уснула во мне, я делал очень мало, а думал еще меньше. Но я чувствовал, что эта интеллектуальная апатия была только преходящей фазой – умственными каникулами и желанным отдыхом от интеллектуальной работы, на который я заслуженно имел право после всех страданий бедности и отчаяния. Моя книга печаталась, и, может быть, самым большим удовольствием из всех, которыми я теперь пользовался, была для меня вычитка первых листов, по мере того как они поступали мне на просмотр.
Между тем даже это авторское удовлетворение имело свой недостаток, и мое личное неудовольствие было каким-то странным. Я читал свою работу, конечно, с наслаждением, так как нисколько не отставал от своих собратьев, считая, будто все, что я делал, было хорошо, но мой снисходительный литературный эгоизм был смешан с неприятным удивлением и недоверием, потому что в моей книге, написанной с энтузиазмом, превозносились чувства и излагались теории, в которые я не верил. Как это случилось? – спрашивал я себя. Зачем же я предлагал публику составить обо мне ложное мнение?
Эта мысль ставила меня в тупик. Как я мог написать книгу, совершенно непохожую на меня, каким я теперь знал себя?
Мое перо, сознательно или бессознательно, написало то, что мой рассудок всецело отвергал, как, например, веру в Бога, веру в вечные возможности божественного прогресса человека. Я не верил ни в одну из этих доктрин. Когда мною владели такие идеи, я был бедняком, умирающим с голода, не имевшим друга в целом свете, и, вспоминая все это, я поспешно решил, что мое так называемое вдохновение было результатом работы не получавшего достаточного питания мозга. Но тем не менее было нечто утонченное в этой поучительной истории, и однажды днем, когда я занимался просмотром последних листов корректуры, я поймал себя на мысли, что книга была благороднее, чем ее автор. Эта идея причинила мне внезапную боль. Я бросил свои бумаги и стал смотреть в окно. Шел сильный дождь, и улицы были черны от грязи; промокшие пешеходы имели жалкий вид, вся перспектива казалась печальной, и тот факт, что я теперь был богатым человеком, не поборол уныния, незаметно закравшегося в меня. Я был совершенно один, так как теперь имел свой собственный номер из нескольких комнат в отеле, недалеко от тех, которые занимал князь Риманец. Я также имел своего слугу, порядочного человека, который мне нравился тем, что разделял мое инстинктивное отвращение к княжескому лакею Амиэлю. Кроме того, у меня были собственные лошади, экипаж, кучер и грум, так что мы с князем, будучи самыми задушевными приятелями, все же могли, избегая той «фамильярности», которая вызывает презрение, существовать по отдельности. В тот день я был в более отвратительном расположении духа, чем в дни моей бедности, хотя, по здравому размышлению, мне не о чем было горевать. Я обладал громадным состоянием, отличался прекрасным здоровьем и имел все, что хотел, сознавая, что, если бы мои желания увеличились, я легко мог удовлетворить их. Под руководством Лючио «колесо публичности» набрало такие обороты, что я мог увидеть свое имя почти в каждой провинциальной и лондонской газете, называвшей меня «знаменитым миллионером». И для пользы публики, к сожалению, несведущей в этих делах, я могу пояснить, и это истина без всяких прикрас, что за четыреста фунтов стерлингов [4 - Факт. – Примеч. автора.] хорошо известное «агентство» гарантирует помещение все равно какой, лишь бы не пасквильной, статьи не менее как в четырехстах газетах. Таким образом, секрет популярности легко объясним, и здравомыслящие люди в состоянии понять, почему имена некоторых авторов постоянно встречаются в печати, тогда как другие, быть может, более достойные, остаются неизвестными. Их заслуги в таких случаях ничего не значат – все решают деньги.
Настойчивое упоминание моего имени с описанием моей наружности и моих «удивительных литературных дарований», вместе с почтительными и довольно явными намеками на «миллионы», которые и делали меня таким интересным (статья была написана самим Лючио и передана в вышеупомянутое «агентство» вместе с кругленькой суммой), – все это, повторю, имело два следствия: во-первых, целую гору приглашений принять участие в общественных и артистических мероприятиях, а во-вторых – непрерывный поток просительных писем. Я был вынужден завести секретаря, который поселился в комнате рядом с моим номером и буквально весь день работал не покладая рук. Излишне говорить, что я отвечал отказом на все просьбы о деньгах: в дни моих бедствий мне не помог никто, кроме старого товарища Баффлза; никто, кроме него, не сказал мне даже доброго слова. И я решил теперь быть таким же жестоким и таким же беспощадным, какими были мои современники. Я со злорадством прочел письма двух-трех литераторов, просящих работы в качестве «секретаря или компаньона», или немного денег «взаймы», чтоб «преодолеть затруднения». Один из этих просителей был журналистом в хорошо известной газете, который обещал найти мне работу, но вместо этого, как я потом узнал, отговаривал редактора дать мне какое-нибудь занятие. Он и представить себе не мог, что Темпест-миллионер и Темпест – неудачливый писатель были одно и то же лицо, – так мало верит большинство, что богатство может выпасть на долю автора! Я ответил ему лично и сказал все то, что, как я считал, он должен был знать, прибавив саркастическую благодарность за его дружелюбную помощь в дни моей крайней нужды, – и, делая это, я вкушал наслаждение мести. Он никогда больше мне не писал, и я уверен, что мои слова дали ему пищу не только для удивления, но и для размышления. Между тем, несмотря на преимущества, какими я теперь пользовался, я не мог по совести сказать, что был счастлив. Я знал, что стал одним из людей, которым завидовали больше всего, а между тем… Когда я стоял и смотрел в окно на непрерывно идущий дождь, я чувствовал скорее горечь, чем сладость в полной чаше богатства. Многое, от чего я ожидал необыкновенного удовлетворения, оказалось бесцветным. Например, я наводнил прессу искусно составленной, броской рекламой своей книги, и когда я был беден, я представлял себе, как буду ликовать при этом, но даже она теперь меня почти не занимала: мне надоело видеть свое собственное имя в газетах. И хотя я с понятным интересом ожидал издания моего труда, сегодня и эта мысль потеряла свою привлекательность из-за нового и неприятного впечатления, что содержание книги было совершенно противоположно моим истинным мыслям. Улицы сделались темными от тумана и дождя, и, почувствовав отвращение к погоде и к самому себе, я отвернулся от окна и уселся в кресло у камина, мешая уголь, пока он не запылал, и придумывая способ, как бы избавить свой дух от мрака, который угрожал окутать его таким же густым покровом, как лондонский туман.
Кто-то постучал в дверь, и в ответ на мое несколько раздраженное «Войдите!» вошел Риманец.
– Что это значит, Темпест, почему у вас темно? – воскликнул он весело. – Отчего вы не зажжете свет?
– Огня довольно, – ответил я сердито, – во всяком случае, довольно, чтобы думать.
– А, вы думали? – спросил он смеясь. – Не делайте этого. Это дурная привычка. В наше время никто не думает. Люди не могут выдержать этого, их головы слишком слабы. Только начать думать – и основы общества рухнут; кроме того, думать – работа скучная.
– Я согласен с этим, – сказал я мрачно. – Лючио, со мной что-то неладно!
Его глаза засветились.
– Неладно? Что же может быть неладного с вами, Темпест? Разве вы не один из самых богатых людей?
Я пропустил насмешку.
– Послушайте, мой друг, – сказал я горячо, – вы знаете, что последние две недели я был очень занят, читая корректуру моей книги для печати.
Он, улыбаясь, кивнул головой.
– Я почти закончил работу и пришел к заключению, что в этой книге нет меня, она нисколько не отражает мои чувства, и я не могу понять, каким образом я написал ее.
– Может быть, вы находите ее пустой? – сочувственно спросил Лючио.
– Нет, – ответил я с оттенком негодования, – я не нахожу ее пустой.
– Тогда скучной?
– Нет, не скучной.
– Мелодраматичной?
– Нет, не мелодраматичной.
– Хорошо, мой друг, если она не пуста, не скучна и не мелодраматична, какая же она? – воскликнул он весело. – Она должна быть какой-нибудь!
– Да… и вот она что: она выше меня! – Я говорил с некоторой горечью: – Гораздо выше меня! Я бы не мог написать ее теперь, и я удивляюсь, как я мог написать ее тогда! Лючио, я говорю глупо, но, право, мне кажется, что мои мысли парили высоко, когда я писал книгу, на той высоте, с которой я упал с тех пор.
– Мне жаль это слышать! – Его глаза сверкнули. – Из ваших слов я заключаю, что вы виновны в литературной выспренности. Дурно, весьма дурно! Ничего не может быть хуже. Выспренно писать – самый тяжкий грех, которого критики никогда не прощают. Я досадую за вас! Я никогда б не подумал, что вы были настолько безнадежны.
Я рассмеялся, несмотря на свое уныние.
– Вы неисправимы, Лючио, – сказал я, – но ваше хорошее расположение духа действует ободряюще. Вот что я хотел объяснить вам: моя книга выражает мысли, которые, считаясь моими, совсем не мои. Одним словом, я, каким я стал теперь, нисколько им не симпатизирую. Должно быть, я сильно изменился с тех пор, как имел их.
– Изменились? Еще бы! – Лючио расхохотался. – Обладание пятью миллионами способно значительно изменить человека к лучшему или к худшему! Но вы, по-видимому, мучаетесь без причины. Ни один автор в продолжение многих веков не пишет от сердца; если же он действительно чувствует то, о чем пишет, то делается почти бессмертным. Эта планета слишком мала, чтобы иметь больше одного Гомера, одного Платона, одного Шекспира. Не терзайте себя, вы не один из этих трех! Вы принадлежите своему веку, Темпест, – декадентскому, эфемерному веку, и многое, что связано с ним, также декадентское и эфемерное. Эпоха, в которой господствует любовь к деньгам, имеет гнилую сердцевину и должна погибнуть. Вся история говорит нам об этом, но никто не принимает ее уроки всерьез. Обратите внимание на признаки времени. Искусство подчинено любви к деньгам; литература, политика и религия – также; вы не можете избежать общей болезни. Единственно, что остается делать, это извлечь из нее самую большую выгоду; никто не может излечить ее, и меньше всех вы, которому досталось так много презренного металла.
Он остановился, я молча следил за пылающим огнем и падающей красной золой.
– То, что я скажу сейчас, – продолжал он почти меланхолично, – покажется вам до смешного банальным, но в этом состоит истина во всей своей отвратительной прозаичности: чтобы писать с чувством, вы должны сами чувствовать. Очень вероятно, что, когда вы писали свою книгу, вы были подобны ежу в смысле чувства. Каждая из ваших острых игл поднималась и отвечала на прикосновение различных влияний: приятного или совершенно противоположного, воображаемого или действительного. Это такое положение, которому одни завидуют и от которого другие предпочли бы избавиться. Теперь, когда вам, как ежу, нет необходимости в самозащите или беспокойстве, ваши иглы успокоились в приятном бездействии и вы перестали чувствовать. Вот и все. Перемена, на которую вы жалуетесь, объясняется так: вам нечего чувствовать, потому-то вы и не можете понять, как могло быть, что вы чувствовали.
Его спокойный убедительный тон раздосадовал меня.
– Вы забыли о моей книге, – заметил я, – в ней, я знаю, есть и ум, и также оригинальность. Я уверен, что она поднимет меня на значительную высоту.
– Сомневаюсь, очень сомневаюсь, – ответил он. – Она, конечно, будет принята благосклонно, как произведение богача, забавляющегося литературой из прихоти. Но, как я уже сказал, гений редко развивается под влиянием богатства. К тому же аристократы не могут выкинуть из своих одурманенных голов, что литература принадлежит Граб-стрит [3 - Название лондонской улицы, где продавались дешевые издания и жили преимущественно бедные писатели. – Примеч. ред.]. Великих поэтов, великих философов, великих романистов представители «высшего» общества обычно неопределенно называют «людьми этого сорта». «Люди этого сорта так интересны», – снисходительно говорят олухи голубой крови, словно извиняясь за знакомство с некоторыми членами литературного класса. Вообразите себе чопорную леди времен Елизаветы, обращающуюся к приятельнице: «Ты разрешишь, дорогая, представить тебе некоего Уильяма Шекспира? Он пишет пьесы и что-то делает в театре “Глобус”, боюсь даже, что он немного актерствует; он очень нуждается, бедняга, но люди этого сорта так забавны!» Вы, мой дорогой Темпест, не Шекспир, но ваши миллионы дадут вам более шансов, чем он когда-либо имел в своей жизни, и так как вам незачем искать покровительства или выказывать почтение «моему лорду» или «моей леди», – эти высокие особы только обрадуются случаю занять у вас деньги, если вы готовы будете их одолжить.
– Я не собираюсь давать взаймы.
– А давать просто так?
– Тоже нет.
Его проницательные глаза блеснули одобрением, и он сказал:
– Я очень рад, что вы не намерены «творить добро» вашими деньгами, как говорят ханжи. Вы умны! Тратьте их на себя, потому что тем самым вы обязательно принесете пользу другим, пусть и иными способами. Я всегда принимаю участие в благотворительности и вношу свое имя в подписные листы и никогда не отказываю в помощи духовенству.
– Удивляюсь этому, – заметил я, – особенно после того, как вы сказали, что не являетесь христианином.
– Да, это действительно кажется странным, не правда ли? – сказал он особенным тоном, извиняющим скрытую насмешку. – Но, может быть, вам стоит взглянуть на это с другой стороны. Духовенство делает все возможное, чтобы разрушить религию – ханжеством, лицемерием, чувственностью и всевозможными обманами, – и когда они обращаются ко мне за помощью в таком благородном деле, я оказываю ее с легкостью.
Я засмеялся.
– Очевидно, вы шутите, – сказал я, бросая окурок сигары в огонь, – и я вижу, что вы любите осмеивать свои добрые дела… Что это?
В этот момент вошел Амиэль, неся мне телеграмму на серебряном подносе. Я открыл ее: она была от моего приятеля, редактора, и содержала следующее:
С удовольствием принимаю книгу. Высылайте рукопись немедленно.
Я с торжествующим видом показал телеграмму Риманцу. Он улыбнулся.
– Само собой разумеется! Чего же другого вы ожидали? Только этот человек должен был иначе написать свою телеграмму, так как я не могу предположить, чтобы он принял вашу книгу с удовольствием, если б не рассчитывал хорошо на ней нажиться. «С удовольствием принимаю деньги за издание книги» – так было бы вернее. Хорошо, что же вы намерены делать?
– Это я сейчас решу, – ответил я, чувствуя удовлетворение оттого, что наконец-то пришло время для отмщения некоторым моим врагам. – Книга должна быть напечатана как можно скорее, и я с особенным удовольствием лично займусь всеми относящимися к ней деталями. Что же касается остальных моих планов…
– Предоставьте их мне, – сказал Риманец, властно кладя безукоризненной формы руку на мое плечо, – предоставьте их мне! И будьте уверены, что очень скоро вы окажетесь наверху, как медведь, удачно достигнувший лепешки на вершине смазанного жиром столба, – к зависти людей и изумлению ангелов.
VII
Три или четыре недели пролетели вихрем, и к концу их я с трудом узнавал себя в праздном, беспечном, экстравагантном светском человеке, которым неожиданно сделался. Иногда, случайно, в уединенные минуты, прошлое с его неприглядными картинами возвращалось ко мне, как в калейдоскопе, и я видел себя – голодного, плохо одетого, склонившегося над бумагами в своей унылой квартире, несчастного, но среди всего этого несчастия, однако, получавшего отраду в мыслях, которые создавали красоту из нищеты и любовь из одиночества. Эта творческая способность теперь уснула во мне, я делал очень мало, а думал еще меньше. Но я чувствовал, что эта интеллектуальная апатия была только преходящей фазой – умственными каникулами и желанным отдыхом от интеллектуальной работы, на который я заслуженно имел право после всех страданий бедности и отчаяния. Моя книга печаталась, и, может быть, самым большим удовольствием из всех, которыми я теперь пользовался, была для меня вычитка первых листов, по мере того как они поступали мне на просмотр.
Между тем даже это авторское удовлетворение имело свой недостаток, и мое личное неудовольствие было каким-то странным. Я читал свою работу, конечно, с наслаждением, так как нисколько не отставал от своих собратьев, считая, будто все, что я делал, было хорошо, но мой снисходительный литературный эгоизм был смешан с неприятным удивлением и недоверием, потому что в моей книге, написанной с энтузиазмом, превозносились чувства и излагались теории, в которые я не верил. Как это случилось? – спрашивал я себя. Зачем же я предлагал публику составить обо мне ложное мнение?
Эта мысль ставила меня в тупик. Как я мог написать книгу, совершенно непохожую на меня, каким я теперь знал себя?
Мое перо, сознательно или бессознательно, написало то, что мой рассудок всецело отвергал, как, например, веру в Бога, веру в вечные возможности божественного прогресса человека. Я не верил ни в одну из этих доктрин. Когда мною владели такие идеи, я был бедняком, умирающим с голода, не имевшим друга в целом свете, и, вспоминая все это, я поспешно решил, что мое так называемое вдохновение было результатом работы не получавшего достаточного питания мозга. Но тем не менее было нечто утонченное в этой поучительной истории, и однажды днем, когда я занимался просмотром последних листов корректуры, я поймал себя на мысли, что книга была благороднее, чем ее автор. Эта идея причинила мне внезапную боль. Я бросил свои бумаги и стал смотреть в окно. Шел сильный дождь, и улицы были черны от грязи; промокшие пешеходы имели жалкий вид, вся перспектива казалась печальной, и тот факт, что я теперь был богатым человеком, не поборол уныния, незаметно закравшегося в меня. Я был совершенно один, так как теперь имел свой собственный номер из нескольких комнат в отеле, недалеко от тех, которые занимал князь Риманец. Я также имел своего слугу, порядочного человека, который мне нравился тем, что разделял мое инстинктивное отвращение к княжескому лакею Амиэлю. Кроме того, у меня были собственные лошади, экипаж, кучер и грум, так что мы с князем, будучи самыми задушевными приятелями, все же могли, избегая той «фамильярности», которая вызывает презрение, существовать по отдельности. В тот день я был в более отвратительном расположении духа, чем в дни моей бедности, хотя, по здравому размышлению, мне не о чем было горевать. Я обладал громадным состоянием, отличался прекрасным здоровьем и имел все, что хотел, сознавая, что, если бы мои желания увеличились, я легко мог удовлетворить их. Под руководством Лючио «колесо публичности» набрало такие обороты, что я мог увидеть свое имя почти в каждой провинциальной и лондонской газете, называвшей меня «знаменитым миллионером». И для пользы публики, к сожалению, несведущей в этих делах, я могу пояснить, и это истина без всяких прикрас, что за четыреста фунтов стерлингов [4 - Факт. – Примеч. автора.] хорошо известное «агентство» гарантирует помещение все равно какой, лишь бы не пасквильной, статьи не менее как в четырехстах газетах. Таким образом, секрет популярности легко объясним, и здравомыслящие люди в состоянии понять, почему имена некоторых авторов постоянно встречаются в печати, тогда как другие, быть может, более достойные, остаются неизвестными. Их заслуги в таких случаях ничего не значат – все решают деньги.
Настойчивое упоминание моего имени с описанием моей наружности и моих «удивительных литературных дарований», вместе с почтительными и довольно явными намеками на «миллионы», которые и делали меня таким интересным (статья была написана самим Лючио и передана в вышеупомянутое «агентство» вместе с кругленькой суммой), – все это, повторю, имело два следствия: во-первых, целую гору приглашений принять участие в общественных и артистических мероприятиях, а во-вторых – непрерывный поток просительных писем. Я был вынужден завести секретаря, который поселился в комнате рядом с моим номером и буквально весь день работал не покладая рук. Излишне говорить, что я отвечал отказом на все просьбы о деньгах: в дни моих бедствий мне не помог никто, кроме старого товарища Баффлза; никто, кроме него, не сказал мне даже доброго слова. И я решил теперь быть таким же жестоким и таким же беспощадным, какими были мои современники. Я со злорадством прочел письма двух-трех литераторов, просящих работы в качестве «секретаря или компаньона», или немного денег «взаймы», чтоб «преодолеть затруднения». Один из этих просителей был журналистом в хорошо известной газете, который обещал найти мне работу, но вместо этого, как я потом узнал, отговаривал редактора дать мне какое-нибудь занятие. Он и представить себе не мог, что Темпест-миллионер и Темпест – неудачливый писатель были одно и то же лицо, – так мало верит большинство, что богатство может выпасть на долю автора! Я ответил ему лично и сказал все то, что, как я считал, он должен был знать, прибавив саркастическую благодарность за его дружелюбную помощь в дни моей крайней нужды, – и, делая это, я вкушал наслаждение мести. Он никогда больше мне не писал, и я уверен, что мои слова дали ему пищу не только для удивления, но и для размышления. Между тем, несмотря на преимущества, какими я теперь пользовался, я не мог по совести сказать, что был счастлив. Я знал, что стал одним из людей, которым завидовали больше всего, а между тем… Когда я стоял и смотрел в окно на непрерывно идущий дождь, я чувствовал скорее горечь, чем сладость в полной чаше богатства. Многое, от чего я ожидал необыкновенного удовлетворения, оказалось бесцветным. Например, я наводнил прессу искусно составленной, броской рекламой своей книги, и когда я был беден, я представлял себе, как буду ликовать при этом, но даже она теперь меня почти не занимала: мне надоело видеть свое собственное имя в газетах. И хотя я с понятным интересом ожидал издания моего труда, сегодня и эта мысль потеряла свою привлекательность из-за нового и неприятного впечатления, что содержание книги было совершенно противоположно моим истинным мыслям. Улицы сделались темными от тумана и дождя, и, почувствовав отвращение к погоде и к самому себе, я отвернулся от окна и уселся в кресло у камина, мешая уголь, пока он не запылал, и придумывая способ, как бы избавить свой дух от мрака, который угрожал окутать его таким же густым покровом, как лондонский туман.
Кто-то постучал в дверь, и в ответ на мое несколько раздраженное «Войдите!» вошел Риманец.
– Что это значит, Темпест, почему у вас темно? – воскликнул он весело. – Отчего вы не зажжете свет?
– Огня довольно, – ответил я сердито, – во всяком случае, довольно, чтобы думать.
– А, вы думали? – спросил он смеясь. – Не делайте этого. Это дурная привычка. В наше время никто не думает. Люди не могут выдержать этого, их головы слишком слабы. Только начать думать – и основы общества рухнут; кроме того, думать – работа скучная.
– Я согласен с этим, – сказал я мрачно. – Лючио, со мной что-то неладно!
Его глаза засветились.
– Неладно? Что же может быть неладного с вами, Темпест? Разве вы не один из самых богатых людей?
Я пропустил насмешку.
– Послушайте, мой друг, – сказал я горячо, – вы знаете, что последние две недели я был очень занят, читая корректуру моей книги для печати.
Он, улыбаясь, кивнул головой.
– Я почти закончил работу и пришел к заключению, что в этой книге нет меня, она нисколько не отражает мои чувства, и я не могу понять, каким образом я написал ее.
– Может быть, вы находите ее пустой? – сочувственно спросил Лючио.
– Нет, – ответил я с оттенком негодования, – я не нахожу ее пустой.
– Тогда скучной?
– Нет, не скучной.
– Мелодраматичной?
– Нет, не мелодраматичной.
– Хорошо, мой друг, если она не пуста, не скучна и не мелодраматична, какая же она? – воскликнул он весело. – Она должна быть какой-нибудь!
– Да… и вот она что: она выше меня! – Я говорил с некоторой горечью: – Гораздо выше меня! Я бы не мог написать ее теперь, и я удивляюсь, как я мог написать ее тогда! Лючио, я говорю глупо, но, право, мне кажется, что мои мысли парили высоко, когда я писал книгу, на той высоте, с которой я упал с тех пор.
– Мне жаль это слышать! – Его глаза сверкнули. – Из ваших слов я заключаю, что вы виновны в литературной выспренности. Дурно, весьма дурно! Ничего не может быть хуже. Выспренно писать – самый тяжкий грех, которого критики никогда не прощают. Я досадую за вас! Я никогда б не подумал, что вы были настолько безнадежны.
Я рассмеялся, несмотря на свое уныние.
– Вы неисправимы, Лючио, – сказал я, – но ваше хорошее расположение духа действует ободряюще. Вот что я хотел объяснить вам: моя книга выражает мысли, которые, считаясь моими, совсем не мои. Одним словом, я, каким я стал теперь, нисколько им не симпатизирую. Должно быть, я сильно изменился с тех пор, как имел их.
– Изменились? Еще бы! – Лючио расхохотался. – Обладание пятью миллионами способно значительно изменить человека к лучшему или к худшему! Но вы, по-видимому, мучаетесь без причины. Ни один автор в продолжение многих веков не пишет от сердца; если же он действительно чувствует то, о чем пишет, то делается почти бессмертным. Эта планета слишком мала, чтобы иметь больше одного Гомера, одного Платона, одного Шекспира. Не терзайте себя, вы не один из этих трех! Вы принадлежите своему веку, Темпест, – декадентскому, эфемерному веку, и многое, что связано с ним, также декадентское и эфемерное. Эпоха, в которой господствует любовь к деньгам, имеет гнилую сердцевину и должна погибнуть. Вся история говорит нам об этом, но никто не принимает ее уроки всерьез. Обратите внимание на признаки времени. Искусство подчинено любви к деньгам; литература, политика и религия – также; вы не можете избежать общей болезни. Единственно, что остается делать, это извлечь из нее самую большую выгоду; никто не может излечить ее, и меньше всех вы, которому досталось так много презренного металла.
Он остановился, я молча следил за пылающим огнем и падающей красной золой.
– То, что я скажу сейчас, – продолжал он почти меланхолично, – покажется вам до смешного банальным, но в этом состоит истина во всей своей отвратительной прозаичности: чтобы писать с чувством, вы должны сами чувствовать. Очень вероятно, что, когда вы писали свою книгу, вы были подобны ежу в смысле чувства. Каждая из ваших острых игл поднималась и отвечала на прикосновение различных влияний: приятного или совершенно противоположного, воображаемого или действительного. Это такое положение, которому одни завидуют и от которого другие предпочли бы избавиться. Теперь, когда вам, как ежу, нет необходимости в самозащите или беспокойстве, ваши иглы успокоились в приятном бездействии и вы перестали чувствовать. Вот и все. Перемена, на которую вы жалуетесь, объясняется так: вам нечего чувствовать, потому-то вы и не можете понять, как могло быть, что вы чувствовали.
Его спокойный убедительный тон раздосадовал меня.