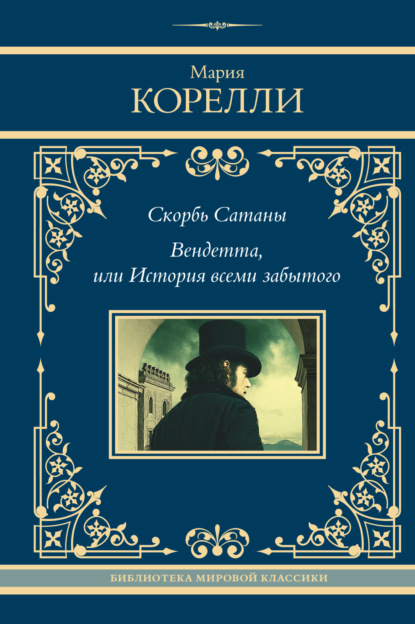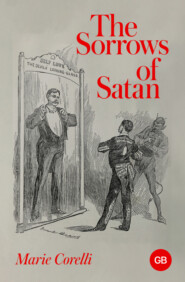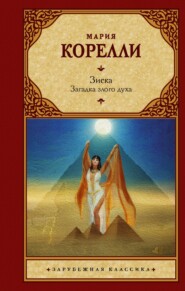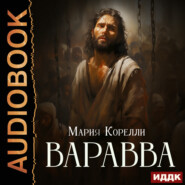По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Скорбь Сатаны. Вендетта, или История всеми забытого
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Его карточные долги превышают сумму, какую он в состоянии заплатить, – прибавил другой, – и я слышал, что он потерял пятьдесят тысяч на скачках.
Эти замечания были сделаны так равнодушно, как будто бы говорили о погоде. Каждый игрок был до мозга костей себялюбив, и, пока я наблюдал их черствые лица, дрожь благородного негодования пробежала по мне – негодования, смешанного со стыдом. Я не был еще совершенно бесчувственным и жестокосердным, хотя, оглядываясь на те дни, которые теперь мне кажутся скорее похожими на сон, чем на действительность, я сознаю, что с каждым прожитым часом делался все более и более грубым эгоистом. Но я еще был так далек от явной подлости, что внутренне решил написать виконту Линтону в тот же вечер и сказать ему, что отказываюсь требовать долг. Когда эта мысль пронеслась в моем мозгу, я невольно посмотрел на Лючио и встретил его пристальный испытующий взгляд. Он улыбнулся и тотчас сделал мне знак следовать за ним. Через несколько минут мы вышли из клуба и очутились на холодном ночном воздухе, под небом, на котором ледяной холодностью сверкали звезды. Мой товарищ положил руку мне на плечо.
– Темпест, если вы намерены быть добросердечным и сочувствовать негодяям, я тут же распрощаюсь с вами! – сказал он со странным смешением иронии и серьезности в голосе. – Я вижу по выражению вашего лица, что вы замышляете какой-то бескорыстный поступок чистого великодушия. Вы хотите освободить Линтона от его долга – вы напрасно беспокоитесь. Он родился негодяем и никогда не стремился сделаться кем-нибудь другим. Почему вы должны сочувствовать ему? С университетской поры и до этих дней он ничего не делал, только жил беспутной чувственной жизнью; он – недостойный развратник и заслуживает меньше уважения, чем честный пес!
– Все же, я полагаю, кто-нибудь любит его! – сказал я.
– Кто-нибудь любит его! – повторил Лючио с неподражаемым презрением. – Ба! Три балерины живут за его счет, если вы это хотели сказать. Его мать любила его, но она умерла: он разбил ей сердце. Он негодяй, говорю вам; пусть он сполна заплатит свой долг, включая и душу, которую он так легко поставил на карту. Если б я был дьяволом и выиграл его душу, я думаю, что, согласно с традициями священников, я бы с ликованием разложил огонь для Линтона, но, будучи тем, кто есть, я говорю: пусть человек сам определяет свою судьбу, пусть все идет своим чередом, и как он рискнул всем, пусть так же за все и заплатит.
В это время мы медленно шли по Пэлл-Мэлл; я только собирался ответить, как на противоположной стороне заметил мужчину, недалеко от «Мальборо-клаб». Я не мог удержаться от невольного восклицания.
– Он там! Виконт Линтон там!
Лючио крепко сжал мою руку.
– Само собой разумеется, вы не собираетесь с ним теперь говорить!
– Нет. Но мне бы хотелось знать, куда он направляется. Он идет не совсем твердо.
– Пьян, вероятно!
И лицо Лючио приняло то самое выражение неумолимого презрения, которое так часто ставило меня в тупик. Мы на секунду остановились, следя за виконтом, который бесцельно бродил взад-вперед перед клубом, пока, по-видимому, не пришел к внезапному решению, и, остановившись, крикнул: «Кеб!»
Тут же подкатил изящный экипаж на бесшумных колесах. Линтон запрыгнул в него, отдав приказание кучеру. Кеб помчался в нашем направлении; едва он миновал нас, как среди тишины раздался громкий пистолетный выстрел.
– Господи! – воскликнул я, пошатнувшись. – Он застрелился!
Кеб остановился. Кучер спрыгнул с козел; клубные швейцары, лакеи, полицейские и множество народа, появившегося бог ведает откуда, в один момент уже толпились там. Я бросился вперед, чтобы присоединиться к быстро собравшейся толпе, но прежде, чем я успел это сделать, Лючио обхватил меня рукой и с силой оттащил назад.
– Держите себя в руках, Джеффри! – сказал он. – Вы хотите предать клуб и всех его членов? Обуздайте свои безумные порывы, мой друг: они приведут вас к бесконечным неприятностям. Если человек умер – он умер, и на этом все.
– Лючио, у вас нет сердца! – воскликнул я, отчаянно пытаясь вырваться из его рук. – Как можете вы рассуждать подобным образом! Подумайте! Я – причина всего этого зла! Мое проклятое везение в баккара было последним ударом в судьбе несчастного молодого человека. Я убежден в этом! Я никогда себе этого не прощу.
– Честное слово, Джеффри, ваша совесть слишком мягка! – сказал он, сжав мою руку еще крепче и торопясь увести меня против моей воли. – Вы должны постараться укрепить ее, если хотите иметь успех в жизни. Вы думаете, что ваше «проклятое везение» стало причиной смерти Линтона? Во-первых, называть везение «проклятым» – противоречие в терминах; во-вторых, виконт не нуждался в этой последней игре в баккара для своего окончательного разорения. Вам не в чем себя винить. И ради клуба, если не ради чего-то другого, я не позволю ни вам, ни себе впутаться в историю с самоубийством. Коронер, к счастью, в подобных случаях всегда использует для вердикта два слова: «временное помешательство».
Я вздрогнул; моя душа болела от мысли, что в нескольких шагах от нас лежало окровавленное тело человека, с которым совсем недавно я еще разговаривал, и, несмотря на слова Лючио, я считал себя его убийцей.
– Временное помешательство, – повторил Лючио, как бы говоря сам с собой. – Угрызения совести, отчаяние, поруганная честь, разрушенная любовь, вместе с современной научной теорией разумного небытия: жизнь – ничто, Бог – ничто; когда все это заставляет обезумевшую человеческую единицу сделать из себя также ничто, временное помешательство извиняет его погружение в бесконечность. Верно сказал Шекспир, что мир безумен!
Я ничего не отвечал. Я был охвачен своими собственными горестными ощущениями. Я шел почти бессознательно, и, когда взглянул на звезды, они прыгали и кружились перед моими глазами. Вдруг слабая надежда озарила меня.
– Может быть, – сказал я, – он, в сущности, не убил себя? Это могла быть лишь попытка?
– Он считался первоклассным стрелком, – возразил Лючио спокойно. – Это было его единственное достоинство. У него не было принципов, но стрелял он метко. Я не могу себе представить, чтоб он не попал в цель.
– Это ужасно! Час назад жить… а теперь… говорю вам, Лючио, это ужасно!
– Что? Смерть? Она и наполовину не так ужасна, как жизнь, ложно прожитая, – ответил он с серьезностью, которая произвела на меня сильное впечатление, несмотря на мое душевное волнение. – Поверьте мне, что нравственная боль и стыд преднамеренно бесчестного существования много хуже мук изображаемого священниками Ада. Пойдемте, пойдемте, Джеффри, вы принимаете слишком близко к сердцу эту историю, вам не в чем себя винить. Если Линтон «счастливо покончил» с собой, это лучшее, что он мог сделать. Он был для всех бесполезен. Положительно, с вашей стороны большая слабость придавать значение такому пустяку. Вы лишь в начале вашей карьеры.
– И надеюсь, что эта карьера не приведет меня более к трагедиям, подобным сегодняшней, – страстно проговорил я. – Если же это случится, то будет совершенно против моей воли!
Лючио пытливо посмотрел на меня.
– Ничего не может случиться против вашей воли. Мне кажется, что вы хотите меня обвинить в том, что я привел вас в клуб? Мой друг, вы бы не пошли туда, если б сами не хотели! Разве я вас тащил туда связанным? Вы взволнованны и нервны, пойдемте ко мне и выпейте стакан вина. Вам это придаст твердости.
Между тем мы дошли до отеля, и я беспрекословно пошел за ним, беспрекословно выпил то, что он мне дал, и стоял со стаканом в руке, следя за ним с болезненным очарованием, пока он сбрасывал свое подбитое мехом пальто. Затем он остановился передо мной; его прекрасное бледное лицо было сурово, темные глаза блестели, как холодная сталь.
– Та последняя ставка Линтона… вам, – сказал я, запинаясь, – его душа…
– В которую ни он, ни вы не верите! – заметил Лючио. – Вы, кажется, теперь дрожите от пустой сентиментальной идеи?
– Но вы, – начал я, – вы говорите, что верите в душу?
– Я? Я сумасшедший! – И он горько засмеялся. – Разве вы до сих пор не поняли это? Учение сделало мой ум больным, мой друг! Наука привела меня к такому глубокому источнику горестных открытий, что немудрено, если мои чувства иногда путаются и в эти безумные моменты я верю в душу!
Я тяжело вздохнул.
– Пойду спать, я чувствую себя усталым и абсолютно несчастным!
– Увы, бедный миллионер! – ласково произнес Лючио. – Уверяю вас, мне жаль, что вечер закончился так злополучно.
– И мне жаль! – повторил я уныло.
– Подумать только! – продолжал он, мечтательно глядя на меня. – Если б мои верования, мои безумные теории чего-нибудь стоили, я бы мог потребовать единственную несомненно существующую частицу нашего покойного знакомого виконта Линтона. Но где и как свести с ним счеты? Будь я теперь Сатаной…
Я принудил себя улыбнуться.
– Вы бы торжествовали! – сказал я.
Он придвинулся ко мне и ласково положил руки мне на плечи.
– Нет, Джеффри, – и в его властном голосе зазвучали нежные ноты, – нет, друг мой! Будь я Сатаной, я бы, наверно, горевал! Потому что каждая погибшая душа напомнила бы мне мое собственное падение, мое собственное отчаяние и составила бы новое препятствие между мной и небом! Помните – сам дьявол был некогда ангелом!
Его глаза улыбались, но я бы мог поклясться, что в них блестели слезы. Я крепко сжал его руку; я чувствовал, что, несмотря на его цинизм и наружную холодность, судьба молодого Линтона глубоко его тронула. От этого впечатления моя симпатия к нему приобрела новую силу, и я пошел спать более примиренный с собой и с обстоятельствами вообще. В продолжение нескольких минут, пока раздевался, я даже был в состоянии размышлять о вечерней трагедии с меньшим сожалением и с большим спокойствием, так как, безусловно, терзаться тем, что необратимо, было бесполезно. И, в конце концов, какой интерес представляла для меня жизнь виконта? Никакого.
Я начал смеяться над своей слабостью и чувствительностью и, будучи страшно утомленным, повалился в постель и моментально уснул. Однако ближе к утру, может быть, часов в пять, я вдруг проснулся, точно от прикосновения невидимой руки. Я весь дрожал, обливаясь холодным потом. Обыкновенно темная комната освещалась странным светом, точно облаком белого дыма или огнем. Я поднялся, протирая глаза, – и один момент смотрел с ужасом перед собой, сомневаясь в ясности своих чувств, так как совершенно явственно и отчетливо, на расстоянии шагов пяти от постели, увидел три стоящие фигуры, закутанные в темные одежды с надвинутыми на лбы капюшонами. Они были так торжественно неподвижны, их черные, подбитые соболями облачения так надежно скрывали очертания их тел, что не было возможности сказать, были ли это мужчины или женщины; но что парализовало меня изумлением и ужасом – так это окружавший их странный свет: прозрачное, блуждающее, холодное сияние освещало их, как лучи бледной зимней луны. Я пытался крикнуть, но мой язык отказался мне повиноваться, и мой голос застрял в горле.
Все трое оставались абсолютно неподвижными, и я снова протер глаза, думая, был ли это сон или галлюцинация. Дрожа всем телом, я протянул руку к звонку с намерением позвонить и позвать на помощь, как вдруг голос, тихий и звучащий невыразимой тоской, заставил меня в смятении откинуться назад, и моя рука бессильно упала.
– Горе!
Слово резким неприятным звуком потрясло воздух, и я почти лишился чувств от ужаса, так как теперь одна из фигур шевельнулась, и ее лицо светилось из-под капюшона – белое лицо, как самый белый мрамор, и с таким страшным выражением отчаяния, что моя кровь заледенела в жилах. Послышался глубокий вздох, более похожий на предсмертный стон, и опять слово «Горе!» нарушило тишину.
Обезумевший от страха и едва сознавая, что делаю, я соскочил с кровати, в бешенстве кинулся к этим фантастическим замаскированным фигурам, решив схватить их и спросить, что значит эта глупая и неуместная шутка, как неожиданно все трое подняли головы и повернули лица в мою сторону! И какие лица! Неописуемо страшные в своей бледной агонии. И шепот, более ужасный, чем пронзительный крик, проник в самые глубины моего сознания: «Горе!»
Одним прыжком я бросился на них, и мои руки ударили в пустое пространство. Между тем они так же явственно стояли там, грозно глядя на меня, пока мои сжатые кулаки бессильно колотили их кажущиеся телесными образы! А затем я вдруг увидел их глаза – глаза, следящие за мной зорко, безжалостно, презрительно, – глаза, которые, как волшебные огни, медленно жгли мое тело и дух. Потрясенный, почти разъяренный от нервного напряжения, я предался отчаянию; я думал, что это ужасное видение предвещало смерть – наверно, пришел мой последний час! Затем я заметил, что губы на одном из этих страшных лиц шевельнулись… Мною овладела какая-то сверхъестественная жажда жизни… Странным образом я знал или угадал ужас того, что будет сказано… И, собрав все свои оставшиеся силы, я крикнул:
– Нет! Нет! Не надо этой вечной погибели! Не сейчас!
Эти замечания были сделаны так равнодушно, как будто бы говорили о погоде. Каждый игрок был до мозга костей себялюбив, и, пока я наблюдал их черствые лица, дрожь благородного негодования пробежала по мне – негодования, смешанного со стыдом. Я не был еще совершенно бесчувственным и жестокосердным, хотя, оглядываясь на те дни, которые теперь мне кажутся скорее похожими на сон, чем на действительность, я сознаю, что с каждым прожитым часом делался все более и более грубым эгоистом. Но я еще был так далек от явной подлости, что внутренне решил написать виконту Линтону в тот же вечер и сказать ему, что отказываюсь требовать долг. Когда эта мысль пронеслась в моем мозгу, я невольно посмотрел на Лючио и встретил его пристальный испытующий взгляд. Он улыбнулся и тотчас сделал мне знак следовать за ним. Через несколько минут мы вышли из клуба и очутились на холодном ночном воздухе, под небом, на котором ледяной холодностью сверкали звезды. Мой товарищ положил руку мне на плечо.
– Темпест, если вы намерены быть добросердечным и сочувствовать негодяям, я тут же распрощаюсь с вами! – сказал он со странным смешением иронии и серьезности в голосе. – Я вижу по выражению вашего лица, что вы замышляете какой-то бескорыстный поступок чистого великодушия. Вы хотите освободить Линтона от его долга – вы напрасно беспокоитесь. Он родился негодяем и никогда не стремился сделаться кем-нибудь другим. Почему вы должны сочувствовать ему? С университетской поры и до этих дней он ничего не делал, только жил беспутной чувственной жизнью; он – недостойный развратник и заслуживает меньше уважения, чем честный пес!
– Все же, я полагаю, кто-нибудь любит его! – сказал я.
– Кто-нибудь любит его! – повторил Лючио с неподражаемым презрением. – Ба! Три балерины живут за его счет, если вы это хотели сказать. Его мать любила его, но она умерла: он разбил ей сердце. Он негодяй, говорю вам; пусть он сполна заплатит свой долг, включая и душу, которую он так легко поставил на карту. Если б я был дьяволом и выиграл его душу, я думаю, что, согласно с традициями священников, я бы с ликованием разложил огонь для Линтона, но, будучи тем, кто есть, я говорю: пусть человек сам определяет свою судьбу, пусть все идет своим чередом, и как он рискнул всем, пусть так же за все и заплатит.
В это время мы медленно шли по Пэлл-Мэлл; я только собирался ответить, как на противоположной стороне заметил мужчину, недалеко от «Мальборо-клаб». Я не мог удержаться от невольного восклицания.
– Он там! Виконт Линтон там!
Лючио крепко сжал мою руку.
– Само собой разумеется, вы не собираетесь с ним теперь говорить!
– Нет. Но мне бы хотелось знать, куда он направляется. Он идет не совсем твердо.
– Пьян, вероятно!
И лицо Лючио приняло то самое выражение неумолимого презрения, которое так часто ставило меня в тупик. Мы на секунду остановились, следя за виконтом, который бесцельно бродил взад-вперед перед клубом, пока, по-видимому, не пришел к внезапному решению, и, остановившись, крикнул: «Кеб!»
Тут же подкатил изящный экипаж на бесшумных колесах. Линтон запрыгнул в него, отдав приказание кучеру. Кеб помчался в нашем направлении; едва он миновал нас, как среди тишины раздался громкий пистолетный выстрел.
– Господи! – воскликнул я, пошатнувшись. – Он застрелился!
Кеб остановился. Кучер спрыгнул с козел; клубные швейцары, лакеи, полицейские и множество народа, появившегося бог ведает откуда, в один момент уже толпились там. Я бросился вперед, чтобы присоединиться к быстро собравшейся толпе, но прежде, чем я успел это сделать, Лючио обхватил меня рукой и с силой оттащил назад.
– Держите себя в руках, Джеффри! – сказал он. – Вы хотите предать клуб и всех его членов? Обуздайте свои безумные порывы, мой друг: они приведут вас к бесконечным неприятностям. Если человек умер – он умер, и на этом все.
– Лючио, у вас нет сердца! – воскликнул я, отчаянно пытаясь вырваться из его рук. – Как можете вы рассуждать подобным образом! Подумайте! Я – причина всего этого зла! Мое проклятое везение в баккара было последним ударом в судьбе несчастного молодого человека. Я убежден в этом! Я никогда себе этого не прощу.
– Честное слово, Джеффри, ваша совесть слишком мягка! – сказал он, сжав мою руку еще крепче и торопясь увести меня против моей воли. – Вы должны постараться укрепить ее, если хотите иметь успех в жизни. Вы думаете, что ваше «проклятое везение» стало причиной смерти Линтона? Во-первых, называть везение «проклятым» – противоречие в терминах; во-вторых, виконт не нуждался в этой последней игре в баккара для своего окончательного разорения. Вам не в чем себя винить. И ради клуба, если не ради чего-то другого, я не позволю ни вам, ни себе впутаться в историю с самоубийством. Коронер, к счастью, в подобных случаях всегда использует для вердикта два слова: «временное помешательство».
Я вздрогнул; моя душа болела от мысли, что в нескольких шагах от нас лежало окровавленное тело человека, с которым совсем недавно я еще разговаривал, и, несмотря на слова Лючио, я считал себя его убийцей.
– Временное помешательство, – повторил Лючио, как бы говоря сам с собой. – Угрызения совести, отчаяние, поруганная честь, разрушенная любовь, вместе с современной научной теорией разумного небытия: жизнь – ничто, Бог – ничто; когда все это заставляет обезумевшую человеческую единицу сделать из себя также ничто, временное помешательство извиняет его погружение в бесконечность. Верно сказал Шекспир, что мир безумен!
Я ничего не отвечал. Я был охвачен своими собственными горестными ощущениями. Я шел почти бессознательно, и, когда взглянул на звезды, они прыгали и кружились перед моими глазами. Вдруг слабая надежда озарила меня.
– Может быть, – сказал я, – он, в сущности, не убил себя? Это могла быть лишь попытка?
– Он считался первоклассным стрелком, – возразил Лючио спокойно. – Это было его единственное достоинство. У него не было принципов, но стрелял он метко. Я не могу себе представить, чтоб он не попал в цель.
– Это ужасно! Час назад жить… а теперь… говорю вам, Лючио, это ужасно!
– Что? Смерть? Она и наполовину не так ужасна, как жизнь, ложно прожитая, – ответил он с серьезностью, которая произвела на меня сильное впечатление, несмотря на мое душевное волнение. – Поверьте мне, что нравственная боль и стыд преднамеренно бесчестного существования много хуже мук изображаемого священниками Ада. Пойдемте, пойдемте, Джеффри, вы принимаете слишком близко к сердцу эту историю, вам не в чем себя винить. Если Линтон «счастливо покончил» с собой, это лучшее, что он мог сделать. Он был для всех бесполезен. Положительно, с вашей стороны большая слабость придавать значение такому пустяку. Вы лишь в начале вашей карьеры.
– И надеюсь, что эта карьера не приведет меня более к трагедиям, подобным сегодняшней, – страстно проговорил я. – Если же это случится, то будет совершенно против моей воли!
Лючио пытливо посмотрел на меня.
– Ничего не может случиться против вашей воли. Мне кажется, что вы хотите меня обвинить в том, что я привел вас в клуб? Мой друг, вы бы не пошли туда, если б сами не хотели! Разве я вас тащил туда связанным? Вы взволнованны и нервны, пойдемте ко мне и выпейте стакан вина. Вам это придаст твердости.
Между тем мы дошли до отеля, и я беспрекословно пошел за ним, беспрекословно выпил то, что он мне дал, и стоял со стаканом в руке, следя за ним с болезненным очарованием, пока он сбрасывал свое подбитое мехом пальто. Затем он остановился передо мной; его прекрасное бледное лицо было сурово, темные глаза блестели, как холодная сталь.
– Та последняя ставка Линтона… вам, – сказал я, запинаясь, – его душа…
– В которую ни он, ни вы не верите! – заметил Лючио. – Вы, кажется, теперь дрожите от пустой сентиментальной идеи?
– Но вы, – начал я, – вы говорите, что верите в душу?
– Я? Я сумасшедший! – И он горько засмеялся. – Разве вы до сих пор не поняли это? Учение сделало мой ум больным, мой друг! Наука привела меня к такому глубокому источнику горестных открытий, что немудрено, если мои чувства иногда путаются и в эти безумные моменты я верю в душу!
Я тяжело вздохнул.
– Пойду спать, я чувствую себя усталым и абсолютно несчастным!
– Увы, бедный миллионер! – ласково произнес Лючио. – Уверяю вас, мне жаль, что вечер закончился так злополучно.
– И мне жаль! – повторил я уныло.
– Подумать только! – продолжал он, мечтательно глядя на меня. – Если б мои верования, мои безумные теории чего-нибудь стоили, я бы мог потребовать единственную несомненно существующую частицу нашего покойного знакомого виконта Линтона. Но где и как свести с ним счеты? Будь я теперь Сатаной…
Я принудил себя улыбнуться.
– Вы бы торжествовали! – сказал я.
Он придвинулся ко мне и ласково положил руки мне на плечи.
– Нет, Джеффри, – и в его властном голосе зазвучали нежные ноты, – нет, друг мой! Будь я Сатаной, я бы, наверно, горевал! Потому что каждая погибшая душа напомнила бы мне мое собственное падение, мое собственное отчаяние и составила бы новое препятствие между мной и небом! Помните – сам дьявол был некогда ангелом!
Его глаза улыбались, но я бы мог поклясться, что в них блестели слезы. Я крепко сжал его руку; я чувствовал, что, несмотря на его цинизм и наружную холодность, судьба молодого Линтона глубоко его тронула. От этого впечатления моя симпатия к нему приобрела новую силу, и я пошел спать более примиренный с собой и с обстоятельствами вообще. В продолжение нескольких минут, пока раздевался, я даже был в состоянии размышлять о вечерней трагедии с меньшим сожалением и с большим спокойствием, так как, безусловно, терзаться тем, что необратимо, было бесполезно. И, в конце концов, какой интерес представляла для меня жизнь виконта? Никакого.
Я начал смеяться над своей слабостью и чувствительностью и, будучи страшно утомленным, повалился в постель и моментально уснул. Однако ближе к утру, может быть, часов в пять, я вдруг проснулся, точно от прикосновения невидимой руки. Я весь дрожал, обливаясь холодным потом. Обыкновенно темная комната освещалась странным светом, точно облаком белого дыма или огнем. Я поднялся, протирая глаза, – и один момент смотрел с ужасом перед собой, сомневаясь в ясности своих чувств, так как совершенно явственно и отчетливо, на расстоянии шагов пяти от постели, увидел три стоящие фигуры, закутанные в темные одежды с надвинутыми на лбы капюшонами. Они были так торжественно неподвижны, их черные, подбитые соболями облачения так надежно скрывали очертания их тел, что не было возможности сказать, были ли это мужчины или женщины; но что парализовало меня изумлением и ужасом – так это окружавший их странный свет: прозрачное, блуждающее, холодное сияние освещало их, как лучи бледной зимней луны. Я пытался крикнуть, но мой язык отказался мне повиноваться, и мой голос застрял в горле.
Все трое оставались абсолютно неподвижными, и я снова протер глаза, думая, был ли это сон или галлюцинация. Дрожа всем телом, я протянул руку к звонку с намерением позвонить и позвать на помощь, как вдруг голос, тихий и звучащий невыразимой тоской, заставил меня в смятении откинуться назад, и моя рука бессильно упала.
– Горе!
Слово резким неприятным звуком потрясло воздух, и я почти лишился чувств от ужаса, так как теперь одна из фигур шевельнулась, и ее лицо светилось из-под капюшона – белое лицо, как самый белый мрамор, и с таким страшным выражением отчаяния, что моя кровь заледенела в жилах. Послышался глубокий вздох, более похожий на предсмертный стон, и опять слово «Горе!» нарушило тишину.
Обезумевший от страха и едва сознавая, что делаю, я соскочил с кровати, в бешенстве кинулся к этим фантастическим замаскированным фигурам, решив схватить их и спросить, что значит эта глупая и неуместная шутка, как неожиданно все трое подняли головы и повернули лица в мою сторону! И какие лица! Неописуемо страшные в своей бледной агонии. И шепот, более ужасный, чем пронзительный крик, проник в самые глубины моего сознания: «Горе!»
Одним прыжком я бросился на них, и мои руки ударили в пустое пространство. Между тем они так же явственно стояли там, грозно глядя на меня, пока мои сжатые кулаки бессильно колотили их кажущиеся телесными образы! А затем я вдруг увидел их глаза – глаза, следящие за мной зорко, безжалостно, презрительно, – глаза, которые, как волшебные огни, медленно жгли мое тело и дух. Потрясенный, почти разъяренный от нервного напряжения, я предался отчаянию; я думал, что это ужасное видение предвещало смерть – наверно, пришел мой последний час! Затем я заметил, что губы на одном из этих страшных лиц шевельнулись… Мною овладела какая-то сверхъестественная жажда жизни… Странным образом я знал или угадал ужас того, что будет сказано… И, собрав все свои оставшиеся силы, я крикнул:
– Нет! Нет! Не надо этой вечной погибели! Не сейчас!