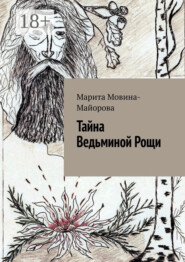По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
«…и прошлого следы». Друскеники – прощай!
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
А может быть, мы жили бы и неплохо: я – грузчик, ты – официантка. Но в то время я не мог тебе ничего дать, кроме себя самого, но этого для тебя было мало. Я бы, наверно, и умер бы на тебе или под тобой – насколько ты была желанной.
С приездом сюда, в наш город, не торопись. Ты была весной, а осенью и зимой здесь совсем другой вид и совсем, совсем другое настроение.
Желаю тебе, Мира, всего самого хорошего.
Виктор.
2004.06. 09.
P.S. №2. Никуда та весна не ушла и все так же вызывает волнение, и чувства не тают. Это просто была заготовка в ответ на твое: «Не звони мне больше».
Если захочешь написать, пиши. …Буду ждать…»
Эпилог
Что-то осталось непонятное от этого сна. Ну, увидела – и увидела сон. Ну, про него. Конечно, странно, что он пришел к ней во сне с этой трехлитровой банкой темно-желтой, почти коричневой, мочи. Странно, что и брюки его лежали, снятые. На топчане. А она стояла и смотрела на него недоуменно. Он что-то говорил ей. Теперь она не помнила – что. Но, кажется, и во сне она не слышала его слов. Видела только его лицо и странное, оправдывающееся его выражение. Вниз, на ноги она не смотрела… Что же осталось непонятым? Нет, не смысл его слов – он ей был не интересен уже во сне. Она просто стояла и смотрела на него, как он говорит ей что-то. Смущенно. Но не это держало ее внимание там…
Что же?
С самого сегодняшнего утра, с самого того момента, когда она проснулась, просмотрев этот сон, он снова и снова приходил к ней в виде картинки и ее ощущения там. И каждый раз возникало недоумение по поводу увиденного и ощущенного там, и каждый раз она «задвигала» его, этот сон, эту картинку с ощущением куда подальше, за занавес сознания. А он просто преследовал ее! Целый день.
Что же там такого необычного?
Сейчас, ночью, она ворочалась на диване, обнимая свою любимую очень мягкую подушку в виде яркой рыбки, прижимала ее то к своей груди, то к животу, то к щеке, вздыхала, но никак не могла не видеть его лица во сне и не чувствовать что-то, что чувствовала тогда, глядя на него. Нет, не к нему. К нему она ничего не чувствовала, только наблюдала его…
Господи! Что же, что?! Почему этот сон не отпускает ее? …Или она – его?
Мучения продолжались. Был первый час ночи.
…Одно она видела очень хорошо: что чувства ее к нему впервые за все эти ужасные годы мучений сумасшедшей, почти роковой любовью были совсем иные – их не было вовсе. Никаких. Одно любопытство – что он там стоит и говорит такое? Он был в тот момент совершенно чужим человеком для нее. Хотя, она и знала, видела, что это – он.
Никаких чувств!.. И только вопрос, не произнесенный ею вслух – зачем он пришел?
…Что же там, что?.. Она снова перевернулась на диване, снова вздохнула и резко откинула край одеяла – внезапно стало очень жарко – вот оно! Он во сне в таком возрасте, в каком и должен быть сейчас – пятьдесят четыре года, несмотря на то, что выглядит моложаво. Как в реальной жизни. Как в прошлом году, когда он встретил ее якобы (а, возможно, и вправду) случайно в их городке на улице Чюрлениса. Все на той же улице Чюрлениса, на которой столько всего произошло в ее жизни! Да! Он во сне – из прошлого года! Он не из их юности. И она в этом сне – в своем возрасте. Ее сон – про настоящее время, соткан из мгновений ее жизни сейчас! Отгадка найдена – вот в чем странность этого сна: на этот раз они встретились в нем такими, какие они есть сейчас, в настоящем времени, и сон этот – про ее теперешнее отношение к нему.
Боже! Какое счастье, какое облегчение! Она ничем не связана больше с ним! Даже сон говорит ей об этом. Сон о нем дает ей теперь отдых, а не надлом, как раньше! Она замерла на миг, лежа на правом боку и, прижимая подушку к груди, и будто в одно мгновение сбросила огромную мутную тяжесть непонимания этого сна с себя. Воздух у рта снова стал легкий и свежий, пространство темной ночной комнаты сразу расширилось, и внезапно, как это и бывает в момент озарения, и этот вопрос ее – зачем он пришел – и ее недоумение там, во сне, стали сразу понятны ей – зачем он пришел? – ведь они же простились.
…Ее накрыл безоблачный, легкий сон – сейчас, в этой жизни, в 2005-м году, она не чувствовала к нему больше ни-че-го…
Вся предыдущая жизнь ее была одним большим Эпилогом.
…Или Прологом?..
…Конец…
а кто слушал – молодец,
а кто не поверил, что это конец, может перевернуть страницу.
Повествование
…В нос ударил ядреный запах сухой хвои.
«Надо же! Только дождь прошел, а пахнет сухой хвоей. Как в детстве».
Она сошла на землю из автобуса и, пройдя несколько метров, остановилась: пахло невыносимо знакомо детством, как будто не прошло сорока с лишним лет после него, как будто не прошло семнадцати лет после последнего свидания с родным городом.
«Нет! это невозможно… это невозможно вместить в понятие „запах“! Это – ДЕТСТВО».
На автобусной станции – совсем маленьком участке земли с небольшим одноэтажным зданием – кроме одного прибывшего автобуса из Вильнюса, на котором только что приехала она, и шофера, разговаривавшего со станционным кассиром, никого уже не осталось.
«Посижу немного на скамейке. Куда мне спешить. Самое главное место, куда я так стремилась, достигнуто. А уж дальше – потихоньку все устрою. Ведь я – дома, хоть теперь это и называется „заграница“».
Обойдя здание станции, она присела на скамейку перед его парадным входом, куда никто сейчас не входил, потому что он был заколочен, а большие стекла его окон и дверей были покрыты давней пылью – и это неприятно скребануло ее по сердцу, как признак явного запустения курортной жизни города. Сняла свой желтый рюкзачок из-за спины… И стала смотреть на густой сосновый лес напротив, который надежной стеной окружал старый Парк лечебной физкультуры, и выходивший прямо к неширокой шоссейной дороге, по которой изредка проезжали автомобили, и на которой и стояла автостанция… на старые деревянные здания бывшего дома отдыха «Работников профсоюза» слева от автостанции и от поворота к парку – и через тротуар от шоссе, – так и оставшиеся с тех давних пор, и где директором в 1957-м году был ее отец.
Ей вдруг захотелось плакать.
«Приехала».
И стало вдруг страшно, что в действительности здесь ничего не изменилось с самого 1956-го года. Разве что только сосны чуть стали выше, но и то – вряд ли – им давно уже за сто лет, и они давно уже не растут вверх – такими они, скорее всего, и были в 1956-м году, когда отец привез ее и ее мать сюда, и она, проснувшись у него на руках и открыв глаза, впервые увидела это озеро с этого пригорка; и это озеро таким и осталось в ее памяти навсегда.
И вот сейчас она снова видела это озеро. Таким, как тогда. С пригорка.
Она поняла, что время для нее здесь, в ее любимом городке, остановилось навсегда. Она сама его остановила, чтобы все здесь было для ее памяти – неизменность для памяти души, словно она никогда отсюда и не уезжала.
Ей нравилась эта память.
Костёл над озером.
И все же очень хотелось плакать. Заплакать прямо здесь же, на этой скамейке и больше никуда не идти: она все уже увидела и могла снова возвращаться в свой дебильный Ленинград (простите, Санкт-Петербург!)
Ей захотелось прямо на этой скамейке сейчас же и умереть, и родиться вновь в 1956-м году в этом городе в момент ее приезда сюда. И больше никогда и никуда не уезжать отсюда, и прожить всю свою жизнь так, как она хотела, и быть с теми людьми, с которыми она хотела быть, и никогда с ними не разлучаться, и быть счастливой, и любить своих любимых, и чтобы они любили ее и никогда ее не покидали.
Она сдержала спазм в горле, глубоко вздохнула, убрала готовые вылиться сплошным потоком слезы, и в который уже раз за все эти долгие годы странной свой жизни осознала, что жизнь эта почти прожита, ее любимые не были с ней никогда и оставляли ее без ее согласия и без надежды даже быть с ними; этот, ее самый любимый город на земле, она потеряла тоже навсегда, когда перевезла в Питер свою мать, и что все, что ей осталось – это, несмотря ни на что, «весело продолжать смотреть на жизнь и держать хвост пистолетом», как учил ее отец, самый любимый ее человек, одним из первых оставивший ее. Или бесконечно драматизировать все эти потери.
Ей хотелось плакать сейчас, но она была рада, что выбрала третий вариант – приехала еще раз сюда, чтобы на все это посмотреть и, или успокоиться раз и навсегда по поводу потерь, или попытаться вновь вернуться сюда. Уже навсегда.
Было раннее утро апреля 2004-го года. Она снова была у себя.
В Литве.
…«Нет, сидеть больше хватит!»
«А ведь так говорил отец, – тут же подумала она, услышав собственные мысли. – Ну, что ж, ладно. …Надо пойти, устроиться, чтобы это не тянуло, а уж потом идти и идти, гулять и гулять по городу, по лесу. К озеру пойти».
Она сразу приободрилась, легко встала со скамьи и пошла… как будто бы смело, но втайне испытывая невероятную гамму чувств – от любопытства до боязни, даже страха – в сторону современных корпусов старого санатория.
…Как же все это описать?! Она шла по той самой дороге, по которой столько раз за тридцать прожитых здесь раньше лет ходила к вокзалу, уезжая погостить, а затем учиться – в Ленинград; отправляясь на автобусе в Гродно или Поречье по делам; по этой дороге она шла и тем ранним сентябрьским утром, когда Он уезжал поступать учиться в Каунас в милицейскую школу, чтобы смог он этим утром посмотреть ей в глаза и снова увидеть в них ее, настоящую, запомнить ее только такой, и после этого сказать ему, продолжая глядеть ему глаза, что она – не такая, какой он увидел ее вчера вечером после празднования дня рождения у Любы (как же важно тогда это было сделать для нее!); по этой дороге она шла вечером со своим трехлетним сыном Андреем, возвращаясь с ним из Вильнюса после поездки к врачу – в тот вечер она познакомилась со своим первым настоящим мужчиной; она ходила по этой дороге сто, тысячу раз! она ходила по ней со своим отцом, держа его за мизинец, маленькая, четырехлетняя девочка, для которой этот мизинец олицетворял все счастье на Земле – ведь она шла рядом с любимым папой! на этой дороге была вся ее жизнь.