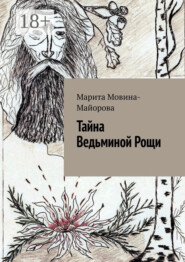По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
«…и прошлого следы». Друскеники – прощай!
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Он вспомнил, как они встретились много-много лет спустя, и он шел рядом с ней по этому вот, такому же весеннему лесу, и слушал ее признания о том, что так она хочет вернуться сюда навсегда, остаться жить здесь до конца своих дней и умереть, и быть похороненной на этом вот их городском маленьком кладбище над озером; как вынужден был сказать ей, что она слишком давно не была здесь и потому не знает – на этом кладбище уже никого давно не хоронят, а хоронят далеко за чертой города; что пусто в их городке сейчас и еще унылее стала жизнь, чем раньше; что зимой здесь и вовсе тоска смертная, и что, если она думает о возвращении сюда, то пусть не торопится с решением. На самом деле, он очень осторожно отговаривал ее. Он боялся. Боялся ее возвращения, боялся, что опять не сможет справиться со своими чувствами к ней, которые так никуда и не делись, боялся, что ее возвращение сюда до конца разрушит его, пусть и совсем не счастливую, жизнь; однако эта жизнь была у него, он привык к ней и смирился, и, как всегда, ничего не хотел менять. Но она возражала ему, говорила, что их городок всю ее жизнь продолжал сниться ей, что он продолжал и продолжает притягивать к себе как магнитом, что успокоение свое она сможет найти, только вернувшись сюда. А он вспоминал ее слова, сказанные ею так давно, уже теперь – в прошлом, двадцатом веке, о том, что она никогда-никогда больше не вернется в этот маленький, известный ей до тошноты вдоль и поперек, городок…
Она так и не вернулась сюда. Нашла ли она успокоение? И если нашла, то где? с кем? Он понял, что по-прежнему не желал ей счастья ни с кем другим, даже сейчас, когда его жизнь была на исходе, а ее жизнь давно уже оборвалась. Он не желал ей счастья ни с кем, хотя сам так и не смог подарить ей его.
Сейчас, глядя на весенний, несущийся стремительно, бурлящий поток, он подумал о том, что всегда знал, что зря манит ее к себе своими чувствами, с которыми и сам не мог совладать. Он знал о себе все, с самого начала: он не сможет справиться с ней, не сможет завладеть ею целиком, без остатка. Он не сможет удержать ее возле себя в повиновении только силой своего физического, чувственного воздействия на нее, и бывшего единственным на самом деле, истоком его таких мощных чувств к ней… Нет, конечно же нет – она притягивала его к себе еще и силой и цельностью своего характера, и он всегда знал, с самого начала, что выбрал кусок пирога себе не по зубам. Он всегда знал, что ни за что не согласится на брак с ней, поскольку брак этот будет слишком неравным для него – он всегда рядом с ней будет чувствовать себя только тенью, несмотря на плен физических чувств, в который она попадала, встречаясь с ним. Рядом с ней он никогда не сможет быть свободным от страха, что рано или поздно, это его чувственное, физическое воздействие прекратится, и она оставит его. Именно поэтому он полжизни истратил на то, чтобы, встречаясь со многими женщинами, доказывать себе, что он еще – в силе. А ею он так никогда и не завладел полностью, целиком, ее цельная натура для него так и осталась нетронутой, хотя и добился он в конце концов от нее согласия на физическое обладание ею. И это всегда, а теперь, на склоне лет – особенно, потрясало его, ввергало в гнев и заставляло ненавидеть ее, безумно любя, словно это она навсегда обманула его, и не желать ей счастья ни с кем. Хотя – нет… так сильно ненавидеть и гневиться на нее сейчас он уже был не в силах… Да и незачем уже было…
И она улетела…
Старик почувствовал, что очень устал. Эти воспоминания, от которых он никуда не мог скрыться, да и не хотел, вытягивали из него последние силы. Сегодня он еле-еле добрался до этой скамейки. Но не пойти сюда не мог: на такой точно скамейке, так давно, словно было это в другой его жизни, он первый раз, наконец, после месяцев и месяцев ожидания и томления, поцеловал ее; нет, не первый – первый был у нее дома, на кухне, быстрый и обжигающий; а на такой вот скамейке первый раз они поцеловались, это было уже их обоюдное стремление; на такой вот скамейке они тогда долго целовались, неясно осознавая, что наступал какой-то новый этап в их жизни, в его и в ее. И хорошо, что не могли они тогда знать, каким он будет… этот этап… Как оказалось, тогда они начали свой путь на Голгофу.
Он судорожно втянул в себя воздух и снова почувствовал спазм в сердце.
На берегу Немана
«Что ж теперь делать? Что сделано, то сделано… И жизнь прожита. Большая. И дети у меня есть, и внуки. И мать я свою здесь похоронил, не бросил. Только вот ее… Только вот с ней как же…»
Он понял, что из последних сил все же пытается оправдать себя, пытается не чувствовать себя виноватым, но в действительности – все время просит у нее прощения. Потому и воспоминания эти были такими и мучительными, и сладкими для него. Потому и забирали они постепенно из его тела жизненную силу. Он чувствовал, что идет к завершению своей жизни, и не хотел останавливаться.
…Да, она улетела тогда. Последнюю ночь они просидели на такой вот скамейке среди кустов акации и дурманяще пахнувших настурций. Было очень тепло, но он, как от простуды, почему-то потерял в ту ночь голос. На самом деле, он так стремился удержать ее в этом городе и так хорошо понимал, что не сможет этого сделать, он так хотел ее и так хорошо понимал, что не может обладать ею сейчас, он так стремился все это скрыть от нее, что полностью и лишился голоса. Но потеря голоса, как оказалось, в ту ночь еще больше обострила в нем желание. Даже сейчас, сидя на этой скамейке, он, старый и немощный, вдруг почувствовал, как то самое, жгучее и дурманящее голову чувство – острое желание обладать ею, поднимается в нем во всей своей первозданной силе и понял, что, видимо, так и умрет с ним, не получив облегчения и не насытившись, даже в своих мечтах ею, до конца. Неудивительно, что в ту ночь он потерял голос… Он почувствовал, как что-то неуловимое, странное произошло внутри его организма – такого он еще никогда не испытывал: какая-то пружина словно ослабла внутри, и сразу стало легче дышать. До этого момента его воспоминания давали ему только душевное напряжение, они давили на него ощущением огромной потери. А сейчас?
Старик торжествующе улыбнулся, глаза его вспыхнули, плечи распрямились, и резко, одним движением он откинул на спинку скамейки свое, до этого момента, сгорбленное тело. Отбросил палку. Глубоко, всей грудью, вздохнул и ликующе посмотрел вдаль, на противоположный берег реки, потом дальше – на кромку леса, где она соединялась с небом, и вдруг увидел ее любимое лицо, потом – взмывающий в небо самолет, уносивший ее от него… потом широкое небо распахнулось перед ним, а потом…! …он вновь увидел реку, бледно-голубое апрельское небо и услышал – тишину. Он прислушался к этой ароматной лесной тишине, и… снова увидел ее, идущую навстречу ему по школьному коридору: свет обволакивал ее, поднимал и уносил вверх, а она улыбалась ему и рукой манила за собой; он смотрел на нее, не отрываясь, и вдруг задохнулся от восторга и почувствовал, как восторг этот начинает приподнимать его, толкая вперед, к ней!.. «Прости».
И снова он увидел взмывающий в небо самолет! …и оторвался, наконец, от земли.
Он был реабилитирован.
…Вот уже в течение двух недель он каждый день приходил сюда. Как-то, это было в конце марта, он проснулся среди ночи от странной боли в груди. Сердце сжималось и разжималось, а не размеренно билось, как обычно. У него свело от боли под левой лопаткой, и он почувствовал, как начала неметь рука. Перехватило дыхание. Холодный пот выступил по всему телу. Его затрясло, а потом тело его обессилело. И появился Страх. Страх сначала затуманил сознание, а потом вдруг прояснил вспышкой: ему приснилась она – шла по школьному коридору навстречу ему, в коричневом коротеньком форменном платье с круглым маленьким воротничком, подшитым белыми кружавчиками, и в нарядном белом фартуке; в коридоре было очень светло от яркого весеннего солнца, светившего во все огромные его окна, и она приближалась к нему, вся сотканная из солнца, и позади нее тоже сиял свет, заполняя все пространство коридора, остававшееся за ней; она даже не шла уже, а плыла ему навстречу, и в какой-то миг он решил, что вот-вот она взлетит у него на глазах, и он упустит ее!..
И он проснулся с этой болью.
…Рука начала отходить, хотя в ее тканях что-то продолжало покалывать как иголочками – он все еще почти не чувствовал ее. Но сердце восстановило свой ритм, и страх смерти отпустил его.
«Неужели мне страшно умереть? А зачем я живу? Я продолжаю жить без нее. Если бы мне тогда сказали, что я всю жизнь проживу вдали от нее, без нее… Немыслимо, непостижимо. Невозможно. А вот, оказалось, как… И ее уже нет, а я все живу. Зачем?» – И с той ночи он почти перестал спать, потому что стоило ему прикрыть глаза, как перед ним вновь появлялась она – всякая, разная, такая, какой он знал ее в разные годы, но чаще всего к нему приходила юная она, как в пору начала их любви. Тогда он начал искать успокоения в воспоминаниях. И стал приходить на эту одинокую скамейку, почти его ровесницу, чтобы смотреть на воды реки, которую она так любила, и быть с ней, наедине с ней одной, у реки…
– Смотрите! Смотрите! Кто-то сидит там, на скамейке!
– Тише ты, чего разоралась? Может, человек отдыхает.
– Отдыхает? А почему он не шевелится?
– Потому что, может, думает?
– Нет, смотри, палка валяется… а он набок наклонился, голову задрал и не шевелится совсем…
Апрельское, бледно-голубое, очень высокое небо смотрело в его бледно-голубые, широко раскрытые, наполненные покоем, глаза.
***
Я поставила точку в своей очередной новелле и расплакалась. Я сидела и плакала. От сострадания к этому несчастному старику, к его какой-то замученной жизни и главное – я плакала от… от его тоски по ней – его единственной – тоски, пронзившей всю его жизнь, с которой он так и не захотел ничего сделать. Я плакала так, словно сама прожила его жизнь, которую описала, словно сама я была участницей этих событий и сама видела эти бледно-голубые, распахнутые в небо, в порыве все же достать! хотя бы – дотронуться – до своего счастья, глаза умершего старика.
«Вот она, жизнь человека. Ничего она не стоит без права любить и быть любимым, без возможности быть рядом с любимым и без отваги отстаивать это право и возможность; без права прощать и быть прощенным, без способности сострадать. Все эти хитрости, вроде профессии и любимой работы, богатства и почета и еще многих тому подобных вещей ничего не стоят, если не нанизаны они на любовь. Любовь – вот связующая нить всего. Любовь – вот основа основ жизни. Любовь, а не брак, не семья, если только не нанизаны они на искренние чувства людей их создающих, делает человеческую жизнь цельной и неуязвимой. И самого человека – тоже».
Я никогда не плакала раньше о своих литературных героях. Но этот старик, его исповедь самому себе, и особенно – конец его жизни, его смерть, только на пороге которой он получил от самого себя право на реабилитацию, – произвели на меня такое сильное впечатление, что я как будто забыла, что сама и создала его своим воображением. Не-е-ет, на этот раз он, мой литературный герой, заставил меня описать его жизнь и смерть, именно он вел меня от строчки к строчке, от страницы к странице к завершению новеллы. Это он водил моей рукой по бумаге. И это он заставил меня плакать.
И я вспомнила слова одного известного писателя, прочитанные давным-давно, в молодости: «Мои литературные персонажи живут своей самостоятельной жизнью. И каждый раз, когда я сажусь писать книгу, я не знаю, куда приведет меня мой литературный герой».
Мои слезы высохли, но сострадание к старику осталось, и память о нем – тоже.
06—09 апреля 2005года. Санкт-Петербург.
Реквием
Начало
Поезд набирал ход. Пассажиры по инерции все еще продолжали улыбаться своим провожающим, которые давно уже, помахав им на прощанье рукой и, скорее всего, немного позавидовав уехавшим (кто же ни любит тронуться в путь, оставив хоть на время заботы бытия), тут же отдались своим проблемам и переживаниям, покидая перрон Витебского вокзала.
Еще не пришло время начинать новые дорожные знакомства, еще чуть неловко было сидеть друг напротив друга и молчать, еще проводник не прошел по вагону и не собрал билеты и не предложил «постель и чай» – и потому почти у каждого пассажира на лице продолжала блуждать прощальная полуулыбка, и большинство из них делали вид, что тщательно рассматривают что-то за окном. А за окном проплывали грязные подъездные пути, затем депо и, наконец, кирпично-красные обшарпанные постройки привокзалья дореволюционных времен. А вот и сам Питер с высоты путей – тоже домишки какие-то простенькие – доходными домами их раньше называли. Ну, вот – пригород пошел! Все с облегчением вздыхают и начинают потихоньку рассматривать друг друга, задавая ни к чему пока не обязывающие вопросы о том, «к кому, да до куда вы едете». Кто-то быстро реагирует и поддерживает разговор на должном уровне – это значит, что до самого конечного своего пункта назначения он будет активно общаться на любые темы; кто-то отвечает, демонстративно скривив рот, и отворачивается опять к окну; кто-то демонстративно же разворачивает газету (журнал, книгу) и демонстративно же начинает ее читать.
Вот и все. Едем.
Она часто раньше поддерживала начинавшийся дорожный разговор ни о чем. Ей всегда интересны были люди, их жизнь и переживания. Ее интересовала политика и экономика. Об искусстве она тоже любила побеседовать со знающим человеком. Природа захватывала ее целиком, и она непринужденно вслух восхищалась ею. У нее всегда было свое мнение обо всем, но с величайшей легкостью она принимала и другую точку зрения, оставляя свое мнение нетронутым.
Ей было интересно с людьми. Раньше.
Сейчас она предпочитала молча смотреть в окно. Она ехала к себе.
В Литву.
Конец
Два здоровенных мужика ворвались в вагон и, как танки, двинулись вперед.
Она столкнулась с ними лоб в лоб в узком проходе – между кипятильным аппаратом и купе для проводников.
И… ни туда – ни сюда.
Впереди стоящий мужик ничуть не растерялся, глядя на нее, хотя рядом с ним она смотрелась миниатюрной девочкой, и он возвышался над ней всей громадой своей груди-живота. Рюкзак за ее спиной делал ее совершенно неповоротливой, и она чувствовала себя, словно слон в посудной лавке: при любом развороте этот рюкзак стопорил ее в пространстве, обязательно на что-то или на кого-то натыкаясь.
– Дайте выйти из вагона, – сказала она довольно спокойно, считая, что это совершенно нормально – понимать, что надо сначала дать выйти из вагона тем, кто приехал.
– Нет, – решительно сказал первый мужик, правда, слегка дрогнув глазом, – это вы подвиньтесь назад.
– Я? – ее недоумению не было границ, – дайте пройти, люди же еще выходят.
– А вы подвиньтесь назад, вон туда, – снова, не нагло, но настойчиво проговорил животастый, кивнув в сторону кипятильного аппарата.
«Ну, все, приехала, – с тоской и какой-то злобной обреченностью подумала она». – А вслух все так же спокойно, без иронии, констатируя, сказала: – Вот они, мужчины России, – и отодвинулась в сторону, давая пройти этим двум «гавн… м».
Позади тех мужиков давно уже толпились такие же «г… вы», пришедшие встретить каждый свою, такую же «г… ку» – грудастую и животастую. И мир крутился только вокруг них и их животов. Они, эти люди, не были таким уж совсем новым порождением перестройки и этих лихих десяти последовавших за ней лет – хамоватость просто расцвела вновь. Так, наверное, некоторые в России поняли завоеванную кровью демократию – как очередную революцию хамской черни. Но эти двое, после ее слов, как-то скоренько-приниженно проскользнули мимо нее, и следующий элемент рода человеческого, «российский мужчина», прежде стремившийся изо всех сил попасть в вагон, напирая на впереди шедших, вдруг галантно отодвинулся в сторонку и предложил пройти ей, любезно придержав дверь. Все стоявшие за ним «элементы», тоже вежливо отодвинулись, давая ей пройти.